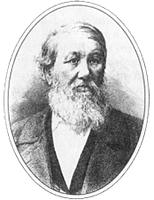Глазьев С.Ю. Я просто выполняю свой долг. – М.: Алгоритм, 2007. – 464 с.
Книга поможет определить свою политическую позицию с учетом собственных и общенародных интересов. В ней дается объективный анализ социально-экономической политики, проводившейся в России в нынешнем столетии. Критикуются ошибочные решения, следствием которых стало замедление экономического роста, чудовищное социальное неравенство и деградация научно-производственного и интеллектуального потенциала страны. Обосновываются рекомендации по переходу на инновационный путь развития, проведению социально ориентированной политики экономического роста, позволяющие втрое поднять уровень жизни народа в среднесрочной перспективе, создать благоприятные условия для созидательной самореализации каждой личности.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Вы держите в руках новую книгу С.Ю. Глазьева. Книга эта, как и все предыдущие, толковая и конструктивная. С.Ю. Глазьев говорит о программе, альтернативной курсу начатых с конца 80-х годов прошлого века реформ. Основные идеи мы неоднократно обсуждали с С.Ю. Глазьевым как на круглых столах и конференциях, так и в ходе многочисленных личных бесед. Можно определенно утверждать, что выносимые на суд читателя мысли автора — это итог скрупулезного научного анализа и размышлений активного политика.
Даже правильную программу, польза которой очевидна практически всем, недостаточно провозгласить и обосновать, за нее приходится бороться, и это уже не борьба научных идей, а борьба политическая. В ней — свои законы, своя стратегия и тактика. Книги С.Ю. Глазьева тем и ценны, что в них представлены обе сферы — научное знание и политика.
Пожалуй, в этой книге беспристрастный взгляд ученого и страсть и непримиримость политика соединились в наиболее сбалансированном виде. Ее будет полезно и интересно прочитать всем — независимо от политической позиции. Большинству читателей главный смысл книги будет близок и понятен. В чем же этот смысл и почему он вызывает неприятие у активных противостоящих меньшинств — и крайних либеральных политиков («правых»), и «левых» политиков, следующих ортодоксальному марксизму XIX в.?
Вспомним траекторию С.Ю. Глазьева в политике, на «непостоянство» которой любят указывать его оппоненты и справа, и слева. Да, С.Ю. Глазьев, как и большинство наших граждан, после краха Советского государства искал те политические структуры и те политические формулы, в которых бы могли воплотиться его идеалы как русского человека и его принципы как гражданина. В том хаосе, в который ввергла нашу страну реформа, человек с совестью был вынужден и обязан искать. И каждый шаг в этом поиске был сопряжен и с отказом от чего-то невозможного или противного совести, и с утверждением того нового, что выросло из опыта и изучения вариантов.
Можно ли было в начале 90-х годов упорствовать в стремлении сохранить советскую плановую систему в версии Горбачева, не говоря уже о версии «застойного периода»? Сегодня верить надо не тому, кто, упорствуя в фундаментализме, игнорировал реальность, а тому, кто, проанализировав, понял разрушительную суть «рынка» Гайдара, Чубайса и Грефа и встал в ряды оппозиции к их проекту.
Будучи противником реформы по рецептам Гайдара, Чубайса и Грефа, С.Ю. Глазьев не стал фанатичным борцом с современными рыночными механизмами. Наше хозяйство должно использовать рыночные инструменты, но так, чтобы они были совместимы с совестью — вот, коротко говоря, кредо С.Ю. Глазьева. И кредо это опирается не только на знание, но и на здравый смысл большинства народа. «Рынок по Чубайсу» с совестью большинства народа оказался несовместим. Нужна была другая программа. Над ней и стал работать С.Ю. Глазьев.
Для такой работы он обладал важнейшими ресурсами — он был активным членом отечественного и международного научного сообщества, работавшего на переднем крае экономической науки, и в то же время был очень тесно связан с той жизнью, которой жило большинство нашего народа, с его культурой и образом мышления. Только соединив оба этих ресурса, можно выработать проект преодоления нашего кризиса. Тот факт, что С.Ю. Глазьев принял активное участие в политической жизни и перешел в оппозицию к действующей программе экономической реформы, стал важным фактором, в какой-то степени сдерживающим ее разрушительный потенциал. Ведь, реально, другого сходного по возможностям канала выхода нашей научной экономической мысли в политику и в общественное сознание у нас не было и нет.
В своем «политическом непостоянстве» С.Ю. Глазьев пытался совместить свою экономическую программу с программами двух больших политических блоков — движения «патриотов» (работая с КРО) и «красного» движения (работая с КПРФ). Оба этих периода были плодотворными. Можно сказать, что С.Ю. Глазьев приобрел опыт идейного и политического взаимодействия с тремя главными организованными политическими силами нынешней кризисной России — с реформаторами-неолибералами, с патриотами-державниками и с коммунистами.
Осмысление этого опыта и позволило ему выйти сейчас со зрелой альтернативной большой программой. Она сегодня оказалась востребованной как со стороны власти, так и со стороны лево-патриотической оппозиции. В дебатах о курсе экономической политики идет сдвиг именно в тех направлениях, о которых последовательно писал С.Ю. Глазьев.
Сегодня мы можем сказать, что С.Ю. Глазьев выполнил свой долг ученого и политика, разработав с коллегами из Российской академии наук программу социально-экономического развития страны и добившись, во многом благодаря политическому давлению созданного им Народно-патриотического союза «Родина», ее фактического признания в качестве главного направления нового экономического курса нынешней власти. К огромному сожалению, время в значительной мере бездарно упущено. Если бы власти прислушались к идеям Глазьева пятнадцать лет назад, то российский капитал работал бы сейчас на российскую, а не американскую экономику, и мы вполне могли бы уже конкурировать по темпам роста с Китаем, а не пытались догнать Португалию.
Сегодня власти де-факто признали, что программе Глазьева как магистральному пути развития экономики нет альтернативы. Но признание на словах часто не подкрепляется со стороны власти делами. Поэтому Глазьеву рано складывать политическое оружие.
Кризис в России представляет собой запутанную систему порочных кругов, и мы погрузились в него так глубоко, что распутывать их надо осторожно, ничего не ломая сгоряча. На вопрос о том, есть ли путь, позволяющий пройти по гребню, не свалившись ни в «рынок без совести», ни в фундаментализм «возврата к прошлому», С.Ю. Глазьев отвечает, что такой путь есть, — и излагает его ориентиры в этой книге.
Понятно, что цель, которую ставит С.Ю. Глазьев — «пройти по гребню», труднодостижима. Все зависит от того, какие силы сможет консолидировать его проект. За двадцать лет многие производственные и общественные системы России деградировали. По сути, значительная часть властвующей элиты страны превратилась в паразитическую прослойку крупных и мелких коррупционеров, стремящихся к сохранению и воспроизводству нынешнего состояния.
Чтобы выйти из состояния нарастающей деградации, недостаточно провозгласить реализацию программы С.Ю. Глазьева. Нужна политическая воля для преодоления сопротивления этой самодовольной элиты и разрушения сложившейся системы властно-лично-имущественных отношений. Стране необходимы смена или хотя бы глубокое обновление элиты, привлечение к власти и управлению грамотных, патриотически настроенных энергичных людей, способных ставить и решать крупные задачи развития страны. Но нынешняя организованная по принципу круговой поруки властвующая группировка будет держаться за свое привилегированное положение.
Эту проблему и ставит С.Ю. Глазьев в своей новой книге, существенно расширяя таким образом проблематику современного российского кризиса. При такой постановке вопроса возникает выходящая за рамки социальной и экономической системы проблема обновления политической системы России. К ней С.Ю. Глазьев подходит через анализ тех новых инициатив, о которых В.В. Путин заявил в своих недавних выступлениях.
Да, переход на инновационный путь развития для России совершенно необходим, на вывозе сырья страну не поднять. Но попытки нынешнего правительства перейти на этот инновационный путь носят бессистемный и внутренне противоречивый характер. Намерения стимулировать развитие промышленности блокируются продолжающейся ограничительной денежной политикой. Заявления о построении «общества знания» сопровождаются сокращением численности ученых. Фактически экономическая система лишь имитирует модернизацию, занимаясь больше пиаром, чем реальным осуществлением крупномасштабных задач.
Во многом это определяется тем порочным кругом, который возник при построении «послеельцинской» административной системы. Назначая лично преданных друзей на ключевые посты в государстве, В.В. Путин стал заложником их круговой поруки. Он не может освободить высший эшелон власти ни от Кудрина с его неадекватными новым задачам представлениями о финансовой политике, ни от Грефа, который губит одну программу за другой, ни от Зурабова, который своими действиями вбивает клин между властью и обществом. Глубокое обновление кадров высшего звена несовместимо с принципами семейно-клановой системы власти, которая досталась В.В. Путину в наследство от Ельцина. При В.В. Путине эта система не была изжита, а стала основой властной вертикали. Но такая вертикаль, отвергающая самостоятельных и квалифицированных людей, не способна эффективно управлять страной.
Сейчас большинство граждан России не является по своим убеждениям «рыночниками», но не является и «антирыночниками». Оно не прозападное, но и не антизападное. Оно не просоветское, но и не антисоветское. Оно принимает патриотично-традиционалистскую риторику В.В. Путина, но отвергает политику его правительства. Оно видит мир по-другому, нежели Греф и Зурабов. И С.Ю. Глазьев видит его так же, как большинство, — потому что исходит из тех же норм здравого смысла, которые отложились в нашей коллективной исторической памяти, которая заведомо не приемлет ни циничную ложь Чубайса, ни вызывающие оргии наших олигархов.
В проекте С.Ю. Глазьева нам предстоит не раз проплыть между Сциллой и Харибдой, и тут еще много конкретной работы — всем хватит. С одной стороны, надо создавать сложные и гибкие барьеры против тех механизмов глобализации, которые грозят удушить все наше наукоемкое производство. С другой стороны, как уберечься при этом от изоляции или не впасть в соблазн протекционизма? С одной стороны, надо удержаться от превращения нашего государства в нового Левиафана, а с другой стороны, как удержать бедствующий народ от рассыпания на враждующие друг с другом группы и кланы? С одной стороны, программа модернизации и развития наукоемких отраслей, как и самой науки, требует концентрации ресурсов и восстановления планового начала —
но как избежать при этом распространенного соблазна наложить пресс планирования на любое предпринимательство? Все эти проблемы реальны и вовсе не тривиальны. Эта книга, как и другие труды С. Ю. Глазьева, создает для их решения определенную матрицу.
Эта матрица в целом — добротна. В ней нет блоков, которые грозят в ходе программы вырваться из-под контроля и запустить необратимые фатальные процессы. Проект С.Ю. Глазьева реалистичен, если мы сумеем правильно использовать оставшееся у нас время. Чем меньше остается времени, тем выше риск сорваться с гребня в ту или иную пропасть.
Как скоро мы сумеем собраться, зависит от нас. Книга С.Ю. Глазьева поможет заинтересованному читателю сделать правильный выбор.
С.А. Батчиков
ВЫБОР БУДУЩЕГО
Вместо введения
Россия вновь стоит перед выбором своего будущего. Вскоре нашему народу предстоит выбрать новых руководителей страны — президента и депутатов Государственной думы, которые, в свою очередь, сформируют новое правительство России. Чтобы сделать осмысленный выбор, люди должны знать правду — и о причинах переживаемых нами бед, и об упущенных возможностях. Помочь в этом призвана настоящая книга. Она посвящена анализу проводимой в стране социальноэкономической политики в сопоставлении с альтернативными возможностями. Приближающийся новый политический цикл обострил внимание общества к такому анализу — люди хотят разобраться в итогах работы уходящей власти, чтобы лучше понять альтернативы будущего выбора. И хотя до сих пор наш народ упорно голосовал за преемственность власти, сохраняется надежда на то, что на новых выборах главы государства люди проголосуют как граждане, понимающие свои собственные и общенародные интересы, а также правильно оценивающие мотивы кандидатов во власть эти интересы реализовать. Книга предназначена именно для них — тех, кто уже сегодня готов бороться за свое конституционное право на достойную жизнь и свободное развитие.
В книгу вошли мои статьи, интервью и аналитические материалы о ключевых проблемах социально-экономической политики государства, написанные за период, прошедший после избрания В.В. Путина президентом России на второй срок. Некоторые тексты перекликаются друг с другом, повторяя наиболее важные для меня тезисы. В силу специфики жанра совсем избежать повторов не удалось — иначе нарушилась бы целостность статей, а также не видна была бы последовательность моей позиции. Они сохранены также для тех, кто не отслеживает публичных дискуссий и хочет составить свое мнение не только о социально-экономических проблемах развития страны, но и о политической борьбе за выбор путей и способов их решения.
Книга состоит из трех частей. В первой части — «Мы предупреждали…» — содержится характеристика социально-экономической политики, проводимой нынешней властью. В ней подтверждаются прогнозы, сделанные автором в ходе президентских выборов, анализируются программные документы правительства на перспективу до 2010 г. и прогнозируются последствия продолжения проводимой им политики. Во второй части — «Отчет перед избирателями» — представлены итоги законотворческой деятельности фракции «Родина» в Государственной думе, а также отчет о работе в моем избирательном округе. В третьей части — «За достойную жизнь» — изложена программа социально-экономического развития страны, которая могла бы стать общей платформой объединения всех народно-патриотических сил. Эта программа, названная «Социальная справедливость и экономический рост», базируется на разработках ведущих научных институтов Российской академии наук; ее положения поддерживаются многими политическими партиями и организациями народно-патриотических сил. Фрагменты этой программы ранее были воплощены в программных документах Народно-патриотического союза России, Конгресса русских общин, Народно-патриотического союза «Родина», общественной организации «За достойную жизнь». Программа опирается на критическое осмысление опыта проводившихся в России преобразований, учитывает закономерности современного экономического роста и особенности нашей страны, нацелена на подъем общественного благосостояния исходя из общенациональных интересов народа России и традиционных для русской культуры духовно-нравственных ценностей.
За последнее десятилетие мы прошли несколько исторических развилок, каждый раз позволяя себя обмануть и оказываясь на тупиковом пути. Очередной самообман может стать роковым — найти выход из глубокого исторического тупика
стране не хватит ни времени, ни сил. Суть предстоящего вы бора достаточно проста. Она неоднократно обсуждалась в различных дискуссиях о будущем России. Как отмечалось мною в программных документах Народно-патриотического союза «Родина», выбирать приходится между двумя дорогами:
— безотлагательной модернизацией экономики на основе нового технологического уклада, активизации научно-производственного, интеллектуального и ресурсного потенциала страны с соблюдением принципов справедливости в целях подъема благосостояния граждан России;
— сохранением сложившегося в годы разграбления страны чудовищного неравенства и несправедливости в распределении национального дохода, дальнейшей экономической колонизацией страны, ее превращением в сырьевой придаток успешно развивающихся экономик Запада и Востока — с неизбежным обнищанием и вымиранием большей части населения, фактической утратой национального суверенитета и духовной самоидентичности.
Нашему народу нужен первый путь. Путь развития и справедливости, путь достоинства и солидарности. Казалось бы, этот выбор очевиден. Любому здравомыслящему человеку понятно, что в интересах России и ее народа необходимо быстрее переходить на инновационный путь развития, на котором только и могут быть реализованы наши особые конкурентные преимущества. Но за этот путь проголосовало лишь 5 млн. человек, поддержавших Народно-патриотический союз «Родина» и его лидера на последних федеральных выборах. Большинство же высказалось за продолжение проводившейся все эти годы политики, поддержав партию власти, — кто по наивности, кто из страха, кто из веры в чудо.
Не будем копаться в общественном подсознании. Констатируем, что людей обманули при помощи продажных журналистов и телевизионных шоуменов, коррумпированных чиновников и их затравленных подчиненных, сыгравших роль баранов-провокаторов. Оклеветали лидеров оппозиции, тиражируя явную ложь в целях их дискредитации. Подтасовали результаты голосования, вбросив миллионы фальшивых бюллетеней при попустительстве запуганных и подкупленных руководителей избирательных комиссий. А затем попросту закрыли оппозиционные партии и перекрыли доступ в политику нелояльным власти общественным деятелям.
Так или иначе, выбор был сделан. Прежняя политика по лучила продолжение. Сегодня мы можем оценить результаты этого политического решения. Главные из них: сокращение населения России еще на 3 млн. человек; демонтаж социальных гарантий и сброс ответственности за состояние социальной сферы в регионы; стабилизация нищенского положения половины граждан; закрепление России в мировых лидерах по уровню убийств, самоубийств, абортов, алкоголизма, наркомании, заболеваемости СПИДом, туберкулезом и сифилисом; вывоз из страны еще 400 млрд. долларов капитала; окончательное прекращение производства большей части товаров с высокой добавленной стоимостью и утрата сотен перспективных технологий; следование в кильватере США по глобальным экономическим и финансовым вопросам, фактический распад СНГ и утрата влияния на значительной части нашего исторического пространства. По общепринятым показателям уровня социально-экономического развития Россия скатилась до уровня слаборазвитых стран, все глубже опускаясь на сырьевую периферию мировой экономики.
Вместе с тем, несмотря на чудовищное падение уровня социально-экономического развития, у нашей страны сохраняется еще мощный потенциал и конкурентные преимущества в перспективных направлениях современного экономического роста, позволяющие вдвое поднять реальный уровень оплаты труда, утроить объемы инвестиций в развитие производительных сил, многократно повысить инновационную активность. Но этот потенциал, созданный еще в советское время, сильно изношен. У нас осталось мало времени, чтобы выйти из тупика. В 2008 г. предстоит сделать окончательный выбор. Как при этом — в пятый раз — не наступить на одни и те же грабли?
Для этого следует разобраться в причинах наших бед и понять, что чуда не будет. Нам самим нужно отстаивать собственные, общенародные интересы. Другого пути нет.
Беда в том, что в экономической политике нашего государства все эти годы господствовали не здравый смысл и интересы страны, а частные интересы паразитической олигархии и коррумпированной бюрократии, которые противоположны интересам общенародным. Поэтому сверхприбыли от эксплуатации принадлежащих всему народу России природных ресурсов направлялись не на развитие страны и повышение уровня жизни населения, а на зарубежные счета оли гархов, связанных с ними коррумпированных чиновников и иностранных кредиторов. Вместо того чтобы рассчитаться по долгам перед собственными гражданами и восстановить их трудовые сбережения, обесценившиеся по вине государства, нынешняя власть вывозит львиную долю бюджетных доходов за рубеж, досрочно погашая внешние долги и предоставляя льготные кредиты США и другим государствам НАТО для повышения своего «рейтинга» в глазах зарубежных партнеров. В их же интересах идет перераспределение прав собственности в базовых отраслях российской экономики.
Уже более чем полтора десятка лет под видом «либеральных» реформ происходит нещадное разграбление нашей страны — из России было вывезено более 800 млрд. долларов. При этом в последние годы главным экспортером капитала стала сама государственная власть, которая не только легализовала его вывоз частными лицами, но и разместила за рубежом около полутриллиона долларов государственных средств. Российская экономика превращена в поставщика природных ресурсов Евросоюзу и финансового донора для государств НАТО. По сути Россия стала сырьевой колонией, теряющей в неэквивалентном экономическом обмене невоспроизводимые природные богатства, капитал и умы.
Неудивительно, что эта политика открыто поддерживается и навязывается нам ведущими политическими, финансовыми и информационными центрами стран НАТО. Она является продолжением политики «Вашингтонского консенсуса», проводившейся под нажимом США в странах «третьего мира» в целях их подчинения интересам крупного международного капитала. Инструментами такой политики являются: безоговорочная либерализация валютного регулирования и торговли, привязка денежного предложения к приросту валютных резервов и долларизация экономики, самоустранение государства от ответственности за национальное социальноэкономическое развитие, приватизация общенациональных богатств и зачистка экономического пространства для свободного движения международного капитала. Ее повсеместные результаты — высасывание из развивающих стран сырья, капитала и умов, обнищание населения на фоне обогащения компрадорского правящего слоя.
Разжиревшие на присвоении общенациональных богатств олигархи поражают весь мир своей расточительностью на фоне обнищания российского народа. Труд гражданина России стал самым дешевым в мире — на единицу оплаты труда он выдает вчетверо больше продукции, чем работающие по найму американцы или европейцы. Доля оплаты труда в использовании российского национального дохода вдвое ниже вклада труда в его создание. Россия, первой в мире провозгласившая созидательный труд высшей ценностью, сегодня имеет позорный статус единственной европейской страны, где официально установленная минимальная оплата труда ниже (да еще вдвое) прожиточного минимума. При этом по числу долларовых миллиардеров Россия вышла на второе место в мире.
Ни для кого уже не секрет, что причиной чудовищной бедности населения России — самой богатой страны мира — является разграбление огромных национальных богатств паразитической плутократией, захватившей власть в результате насильственного государственного переворота и преступного расстрела Верховного Совета России в 1993 г. Узурпировав власть, ельцинские приближенные использовали ее в целях личной наживы: приватизировали в свою пользу наиболее доходные отрасли российской экономики, прибрали к рукам сверхприбыли от использования природных ресурсов страны и установили беспощадный режим сверхэксплуатации российского народа. Присвоенные сотни миллиардов долларов олигархи вывезли за рубеж, там же перерегистрировали права собственности на захваченное в России имущество.
Продолжение политики разграбления страны лишает нас достойного будущего. В то время как в развитых странах осуществляется переход к всеобщему доступному высшему образованию, российских детей лишили даже гарантий на получение полного среднего образования, постепенно вводя его платность. Коммерциализация здравоохранения лишает права на жизнь миллионы людей, не имеющих достаточных средств для оплаты необходимых им медицинских услуг. Граждане России потеряли права на трудовые сбережения, общенародную собственность на средства производства, землю и недра, а теперь еще (после принятия Лесного и Водного кодексов) — на свободный доступ к лесным и водным ресурсам.
И при всех этих чудовищных преступлениях власти против собственного народа у многих наших граждан до сих пор сохраняется наивная вера в доброго царя, который подобно сказочному герою очистит страну от скверны и поставит власть на службу обществу. Эта безграничная доверчивость народа цинично используется властями предержащими, которые грубо обманывают и дурачат избирателей, произвольно манипулируя выборами посредством грязных и противозаконных избирательных технологий.
Дорогие соотечественники!
Пора понять, что проводившаяся вплоть до последнего времени политика — результат не злого умысла или ошибок стоящих у власти негодяев и дураков, а следствие интересов паразитической плутократии, которые системно проводятся в жизнь всеми органами обслуживающей ее коррумпированной государственной власти. Продолжая такую политику, властвующая верхушка все больше отдаляется от народа и противопоставляет себя обществу. Конституционную норму народовластия превратили в фикцию, ликвидировав права граждан персонально избирать руководителей регионов и представителей в Государственной думе. Президентские выборы превращены в ритуал, политическое телешоу с заранее запрограммированными результатами.
Установление режима фактической диктатуры можно было легко предвидеть по характеру проводимой в стране политики. Сохранить при ней власть олигархия может только силой и обманом, ликвидировав демократические механизмы выборов. Я об этом предупреждал в ходе президентских выборов, предлагая реальную альтернативу действующей власти — политику, основанную на общенародных интересах, направленную на восстановление социальных гарантий и прав граждан, обеспечение принципов правового государства и максимально полную реализацию конкурентных преимуществ страны.
Как бы ни пытались кремлевские кукловоды и их политические марионетки изобразить последние президентские выборы безальтернативными, альтернатива была и есть. Она была представлена в программных документах Народно-патриотического союза «Родина», в поддержку которого на выборах в Государственную думу в 2003 г. высказались 5 млн. человек. Я участвовал в президентских выборах 2004 г., чтобы предотвратить сползание власти к криминальной диктатуре, обслуживающей интересы паразитической олигархии. Предупреждал о последствиях продолжения политики подчинения государства интересам олигархии, самоустранения власти от ответственности за уровень жизни народа и развитие страны. К сожалению, я оказался прав — после выборов федеральная власть отказалась от выполнения своих социальных обязательств, сбросив их в регионы, демонтировала значительную часть социальных гарантий и политические права граждан.
Циничный отказ федерального правительства от выполнения большей части социальных обязательств произошел на фоне невиданного роста доходов государства, приступившего, под нашим давлением, к изъятию сверхприбыли от экспорта нефти и газа в бюджет. Но вместо того чтобы направить эти нефтедоллары в решение ключевых проблем социально-экономического развития страны или хотя бы вернуть долги гражданам, руководители нашего государства предпочли оставить их за рубежом. В этих целях был создан Стабилизационный фонд, средства которого стали замораживать в долговых обязательствах США и других стран НАТО. Оправданием столь странного распоряжения деньгами налогоплательщиков служит борьба с инфляцией, которая в действительности порождается попустительством коррумпированной власти злоупотреблениям монополистов и криминализации экономики.
Когда власть посягнула на последние жизненно важные для десятков миллионов людей социальные гарантии, лишая ветеранов прав на благоустроенное жилье, транспортное и качественное медицинское обслуживание, многие прозрели. Ветераны войны и труда, спасшие мир от фашизма и заново отстроившие разрушенную страну, были вынуждены выйти на улицы, чтобы защитить свои законные права. Своим примером они показали, что мы стоим перед выбором: либо самим защищать общенародные интересы, либо лишиться права на жизнь в собственной стране.
Эта борьба не прошла зря. Благодаря протестным акциям граждан, отстаивавшим свои законные права, нам удалось убедить правительство восстановить значительную часть мо нетизированных социальных льгот, выделить ассигнования на бесплатное лекарственное обеспечение инвалидов, детские пособия, на реализацию национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и сельского хозяйства. Мы заставили государство забрать у олигархов значительную часть природной ренты, составляющей сегодня половину доходов федерального бюджета. В своем последнем Послании Федеральному Собранию президент заявил о кардинальном изменении экономической политики — реализации давно предлагавшихся нами мер промышленной, инвестиционной и инновационной политики, модернизации жилищнокоммунального хозяйства и поддержки прорывных направлений научно-технического прогресса. Предприняты первые шаги по преодолению демографического кризиса, поддержке многодетных семей.
Но пока еще рано говорить о приведении социально-экономической политики государства в соответствие с общенациональными интересами. За осуществление нашей программы социальной справедливости и экономического роста предстоит дальнейшая упорная борьба. Мы добились пока лишь частичного ее осуществления. Но сделано самое главное — природная рента возвращена государству, сверхприбыли от экспорта нефти и газа направляются в будущем году на решение задач социально-экономического развития. Осталось, правда, самое трудное — добиться проведения правильной политики развития, опирающейся на активизацию имеющегося у нас потенциала и понимание закономерностей современного экономического роста.
Приближение нового политического цикла в очередной раз ставит общество перед судьбоносным выбором. Вот уже почти двадцать мы переживаем кардинальные изменения, снова и снова надеясь на чудо. Но оно не происходит. Всякий раз вновь избранный глава государства встречается обществом с надеждой, которая затем перерастает в веру, столь же быстро сменяющуюся горьким разочарованием. Сами главы нашего государства словно запрограммированы на этот жизненный цикл. Первое время они стараются соответствовать общественным ожиданиям. Затем проникаются ощущением своего мессианского предназначения, выбирая кажущийся им правильным путь спасения России. По мере накопления ошибок
и осознания проблем, они уходят от ответственности, предос тавляя преемнику возможность провести новый радикальный эксперимент над страной.
Современная политическая история нашей страны, отличающаяся преемственностью власти, по своей безответственности, некомпетентности и пренебрежению интересами отдельных граждан и страны в целом напоминает популярный в советское время в среде хозяйственных руководителей анекдот. Уходя на пенсию, старый опытный директор оставил своему преемнику три конверта с указанием вскрывать их по мере нарастания трудностей в управлении предприятием. Когда, спустя год, преемник почувствовал, что не справляется с управлением, он вскрыл первый конверт. В нем была записка: «Вали все на меня». Так он продержался пару лет, после чего, под давлением нарастающего недовольства своей деятельностью, вскрыл второй конверт. «Проводи реорганизацию», — советовал ему его предшественник. Реорганизация заняла год, но ситуацию не улучшила. Через два года, отчаявшись наладить эффективную работу предприятия, директор вынужден был вскрыть третий конверт. В нем содержался последний совет: «Ищи преемника».
Каждый новый президент воспринимается обществом как спаситель от недостатков предыдущего. Горбачев — от недееспособности и некомпетентности геронтократии. Ельцин — от нерешительности и непоследовательности Горбачева. Путин — от безумия и авантюризма Ельцина. Спустя некоторое время вновь избранный глава государства начинал реорганизацию, проводя радикальные реформы. Первоначальный энтузиазм общества быстро иссякал и сменялся унынием по мере их провала. На этом фоне выросло целое поколение людей со стойким недоверием к власти, систематически обманывающей общественные ожидания. Преемнику Путина придется доказывать обществу способность власти обеспечить гражданам достойную жизнь. В противном случае избиратели просто не придут за него голосовать. Хотя после политической реформы и этого не потребуется — их голоса заранее подсчитает избирательная машина…
Вспомним некоторые вехи новейшей истории. Более 20 лет назад в СССР началась серьезная реформа хозяйственного механизма: в планово-административной системе начали внедрять рыночные элементы. Народ оживился в ожидании бы строго роста уровня жизни. Однако в скором времени по ловинчатый и несистемный подход к реализации реформы привел к ее пробуксовке. Столкнувшись с трудностями, тогдашний глава государства решился на революционное низвержение политической системы партийной диктатуры. Результатом этого стал рост политической активности народа, все более разочаровывавшегося в дееспособности советского руководства. К концу 80-х сложившаяся система окончательно потеряла устойчивость, и утратившее доверие народа руководство самоликвидировалось.
В следующем десятилетии страна пережила полное разрушение всех социально-экономических институтов, сопровождавшееся колоссальным ущербом: общие потери за этот период, по оценкам экспертов, намного превысили материальный ущерб в годы Великой Отечественной войны, а демографические потери составили более 15 млн. человек. Ельцин продолжил и углубил политику демонтажа государственных институтов, которую начал его предшественник. Полностью отпустив вожжи государственного управления и отдав страну на разграбление преступникам, сделавшим коррупцию нормой политической практики, а присвоение чужого — основным способом обогащения, он быстро утратил доверие народа. Поверив в свою миссию — разрушить коммунистическую систему, Ельцин не остановился перед применением силы, расстреляв из танков высший орган власти страны. На установленной им диктатуре выросли околосемейные кланы, присвоившие себе общенародную собственность. Все это не могло не вызвать всеобщей народной ненависти к главе антинародного режима. Он вовремя ушел, избежав ответственности за свою преступную политику.
Путину досталось коррумпированное государство, управлявшееся криминализированной властвующей элитой. Она называла себя олигархией, хотя эту систему власти, согласно классическим определениям, следовало бы назвать плутократией — властью богатых или тимократией — властью честолюбивых, корыстных. Плутократия подмяла государственную власть, разложение которой стало угрозой национальной безопасности и целостности страны. Чтобы сохранить страну, плутократию необходимо было либо уничтожить, либо подчинить государственной власти. Путин выбрал второй путь, сохранив преемственность в формировании кланового гос капитализма.
В течение последнего десятилетия происходила легализация результатов разграбления страны в ельцинский период. Это и легализация вывоза капитала (по новой редакции закона о валютном регулировании), и амнистия совершенных при приватизации госимущества преступлений (путем сокращения срока исковой давности), и легализация прав частной собственности на незаконно присвоенные земли, леса и даже замкнутые водоемы (закрепленная Земельным и Водным кодексами), и отмена налога на дарение и наследство, и резкое снижение подоходного налога для богатых в целях легализации ранее сокрытых доходов. Эти и другие решения государственной власти позволили выросшей при Ельцине плутократии почувствовать себя законными хозяевами страны.
Для закрепления власти плутократии народ фактически лишили избирательных прав. Проведенная партией власти политическая реформа, упразднившая персональную выборность губернаторов, членов парламента, а также возможность проведения референдумов по социально значимым вопросам, завершила становление авторитарного государства, начавшееся антиконституционным переворотом 1993 г.
Как видим, несмотря на революционность перемен, произошедших в нашей стране в течение жизни одного поколения, перемены эти выстраиваются в цепочку событий, объединенных единым курсом обогащения плутократии за счет присвоения общенародных богатств, общей логикой последовательного отказа властей предержащих от обязательств перед обществом и кадровой преемственностью руководящего слоя. Каждый из вновь избиравшихся президентов оказывался выходцем из ближайшей к предыдущему главе государства прослойки правящей элиты.
Российская политическая история двух последних десятилетий во многом определялась простым фактором — власти предержащие хотели иметь больше благ и меньше обязательств. Поэтому концентрация власти при одновременном демонтаже механизмов ее ответственности перед гражданами обернулась ростом произвола и коррупции, с одной стороны, и снижением ее компетентности и эффективности — с другой. Если раньше «семейные» олигархи помыкали «семейной» бюрократической верхушкой, то сейчас они поменялись роля
ми. Но от перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. В симбиозе паразитической олигархии и коррумпированной бюрократии власть подчиняется интересам наживы правящего слоя. В результате при видимости наведения порядка и выстраивания вертикали власти деятельность государственных структур лишилась содержательного смысла.
Правительство оказалось неспособным использовать сотни миллиардов долларов сверхприбылей от экспорта природных ресурсов для нужд развития страны, заморозив их в иностранных ценных бумагах. В 2005—2007 гг. ежегодный чистый вклад политики правительства в экономический рост составлял минус 6—8% ВВП, минус 10—12% объема инвестиций, минус 40% экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Экономика росла не благодаря, а вопреки политике власти, искусственно сдерживавшей развитие страны и рост уровня жизни. При нынешней некомпетентной и коррумпированной власти никакие благоприятные внешние условия для развития страны даже при правильных декларациях и доброй воле президента не будут использованы эффективно. Причина кроется в антагонизме интересов властвующей плутократии, заинтересованной лишь в присвоении все большей части национального дохода и вывозе его за рубеж, и народа, лишенного возможностей для достойной жизни в богатейшей стране.
Три политических цикла саморазрушения государства образовали порочный круг, поставив под сомнение сам смысл его существования. Попытки Путина под конец своего правления восстановить этот смысл, направив государственную машину на решение приоритетных задач социально-экономического развития, без кардинального оздоровления властвующей элиты успеха иметь не будут. Для этого нужны новые люди, не обремененные коррумпированными отношениями и незаконно присвоенными богатствами. Дальнейшей преемственности проводимой политики Россия не выдержит. Новому главе государства, чтобы сохранить страну, придется «наводить мосты» между властью и обществом, покончить с преемственностью в узурпации власти, колонизации экономики и деградации общества. И восстановить преемственность идей народовластия, свободы и развития, с которых начинались реформы два десятилетия назад.
Чтобы спасти страну от самоуничтожения, потери суверенитета и национально-культурной идентичности, преемнику предстоит покончить с преемственностью как в содержании политики государства, так и в способах ее проведения. В том числе и с самой средневековой практикой личной преемственности, порождающей мафиозный тип управления государством. Эффективным государство может стать только при формировании реальных механизмов ответственности власти перед обществом. Нынешняя властвующая элита подменила их семейно-клановыми отношениями, основанными на личной преданности и мафиозных понятиях. Так обычно строится управление организованной преступной группой, но не государством. Его новому главе, чтобы реализовать имеющиеся возможности успешного социально-экономического развития страны, необходимо заставить властвующую элиту служить не себе лично, а общенациональным интересам, существенно обновить ее кадровый состав, очистить от криминальных элементов и заставить ее созидательно работать, наконец.
Как это сделать? Если мы хотим жить достойно и обеспечить достойное будущее нашим детям, то обязаны задуматься над этим вопросом. Власти предержащие несомненно попытаются вновь сохранить преемственность в своей монополии на распоряжение нашими национальными богатствами. При этом на предстоящих выборах нового главы государства они будут убеждать нас в необходимости голосовать за преемника, которого назначит нынешний президент. Но как спаянный круговой порукой симбиоз коррумпированной бюрократии и паразитической олигархии будет в дальнейшем управлять страной? До сих пор такое управление ориентировалось на присвоение ими национального дохода и богатства, на вывоз капитала за рубеж. Сможет ли новый преемник заставить властвующую олигархию работать в интересах страны? Или он сохранит нынешний порядок, при котором 2/3 рождающихся сегодня в России детей обречены на жалкое существование, не имея доступа к современному образованию и шансов найти интересную и хорошо оплачиваемую работу?
Присвоив при Ельцине национальные богатства и легализовав их при Путине, российская олигархия переродилась, по меткому выражению главного политтехнолога, в «офшорную аристократию». Спрятав выжатые из приватизирован ного имущества капиталы за рубежом, там же перерегистрировав права собственности на него и обустроив свои семьи, российские олигархи стали жить как рантье — стричь купоны при помощи прикормленной власти с контролируемых ими российских источников дохода и потихоньку перепродавать их иностранным партнерам.
Будет ли преемник работать в качестве «ночного сторожа» имущества офшорной аристократии, пассивно наблюдая сползание страны все глубже в сырьевую периферию мировой экономики? Или найдет силы для ее модернизации, поставит на путь быстрого социально-экономического развития на основе передовых технологий? Путин неоднократно высказывал намерения двигаться по второму пути. Некоторые шаги в этом направлении были даже сделаны. Образование объявлено приоритетом государственной политики. Государство вернуло себе контроль над экспортом нефти и газа. Ученые получили возможность напрямую подавать свои предложения главе государства. В правительстве начали говорить об экономике знаний. Со страны снята долговая удавка, что резко расширило возможности привлечения капитала и новых технологий.
Но беда заключается в том, что все эти возможности не могут быть реализованы нынешней властвующей элитой, выросшей на присвоении национальных богатств и хорошо умеющей лишь воровать, «отмывать» и прятать. Надежды на то, что все нормализуется само собой или что преемник совершит подвиг, оторвавшись от пуповины вскормившей его плутократии, тщетны. Можно, конечно, полагаться на чудо и не брать на себя ответственность политического выбора. Тогда выбор сделают за нас, и некого будет винить в окончательном саморазрушении России — виноваты будем все мы.
Эта книга — для тех, кто не хочет делегировать свой политический выбор политическим шоуменам, кто чувствует ответственность за будущее страны и кому небезразлично, как будут жить его дети. Эта книга о будущем России, выбор которого зависит от каждого из нас.
Часть I
Мы предупреждали…
ХОЧЕШЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ?
В одной из листовок, подготовленных моим штабом в ходе прошедшей кампании по выборам президента страны, был представлен сопоставительный анализ вариантов государственной политики, проводимой правительством и предлагаемой народно-патриотической оппозицией (см.: Табл. 1). Заголовок этой листовки говорил сам за себя: «Хочешь продолжения или возрождения?»
Таблица 1. Сравнительный анализ вариантов государственной политики по актуальным социально-экономическим проблемам
| Проблемы | Позиция правительства | Позиция народно-патриотических
сил |
| Земля | Приватизация и распродажа земель, ликвидация права бесплатного бессрочного использования земли | Восстановление права граждан на бесплатное использования земли, закрепление городских, лесных, курортных и других социально значимых земель в государственной собственности |
| Труд | Легализация наемного рабства с заниженной оплатой труда | Участие трудовых коллективов в управлении предприятиями, удвоение оплаты труда, преодоление вынужденной безработицы |
| Жилье | Самоустранение государства от содержания жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения права граждан на жилье | Государственная программа восстановления и модернизации ЖКХ, двукратное снижение тарифов, предоставление беспроцентных долгосрочных кредитов на приобретение квартир и домов, бесплатное предоставление жилья госслужащим, ветеранам, многодетным семьям |
| Производство | Отказ от активной государственной политики в сфере производства | Стимулирование роста и модернизации производства на передовой научно-технической основе |
| Социальная сфера | Коммерциализация высшего образования и здравоохранения за счет населения, демонтаж социальных обязательств государства, их финансирование остаточным способом | Государственное бесплатное высшее образование и здравоохранение, повышение детских пособий и стипендий до 1000 рублей в месяц, безусловное исполнение законов о ветеранах и инвалидах, удвоение пенсий |
| Природная рента | Остается у олигархов и недропользователей | Возврат в госбюджет, что позволит его удвоить и выполнить все социальные обязательства государства |
| Цены | Свободные | Стабильность и снижение цен через жесткое антимонопольное регулирование и государственный контроль |
| Коррупция, организованная
преступность и терроризм |
Фактор внутренней политики | Беспощадное искоренение при поддержке населения; смертная казнь за терроризм, распространение наркотиков, совращение детей |
| Нищета, беспризорность | Каждый выживает, как может | Обеспечение социальных гарантий, немедленное обустройство беспризорных детей |
| Капитал | Свободный вывоз капитала | Валютный контроль и прекращение вывоза капитала |
| Армия | Военная «реформа» | Модернизация вооруженных сил, восстановление льгот и удвоение зарплаты военнослужащим |
| Культура | Все дозволено | Защита отечественной культуры, прекращение пропаганды насилия и разврата в
СМИ |
| Окружающая среда | Отмена платежей
за загрязнение окружающей среды |
Введение жесткого контроля над чистотой окружающей среды и прогрессивных платежей за ее загрязнение |
| Внешняя торговля | Неорганизованная | Защита внутреннего рынка и отечественных товаропроизводителей, стимулирование экспорта наукоемких товаров |
| Долги | Безусловное погашение внешнего долга, нарушение обязательств перед собственными гражданами и отказ от восстановления сбережений граждан, утраченных по вине государства | Восстановление дореформенных сбережений граждан, обесценившихся в Сбер банке, по их реальной покупательной способности на 20 июня 1991 г.; внешние долги в обмен на инвестиции |
Примечания к таблице 1
Земля. По инициативе правительства и думской фракции «Единая Россия» вслед за Земельным кодексом были приняты Лесной и Водный кодексы, закрепившие права новых помещиков на владение земельными участками в лесах и на берегах рек, а также поправки в земельное законодательство, вводящие квазибесплатную приватизацию земельных участков под ранее приватизированными предприятиями. При этом думское большинство отвергло мои поправки в Лесной и Водный кодексы, гарантирующие гражданам беспрепятственное пользование лесами и водоемами. Одновременно «Единая Россия» отклонила мои законодательные инициативы по восстановлению прав бесплатного наследуемого владения земельными участками для граждан и бессрочного пользования землей для религиозных организаций.
Труд. Правительство и «Единая Россия» отвергли законодательные инициативы депутатов фракции «Родина» по приведению заработной платы в соответствие с прожиточным минимумом, по увеличению последнего до научно обоснованных стандартов минимальной потребительской корзины, по участию представителей трудовых коллективов в управлении предприятиями. Более чем двукратная заниженность оплаты труда и бесправное положение наемных работников остаются характерными особенностями политики власти.
Жилье. Правительством и «Единой Россией» принят Жилищный кодекс в интересах коммунальных монополий и управляющих компаний, дискриминирующий граждан вплоть до их выселения из квартир. Одновременно был отвергнут проект Жилищного кодекса, подготовленный депутатами фракции «Родина» в интересах граждан. Лишь в последний год президент принял решение о выделении существенных ассигнований на модернизацию ЖКХ, строительство жилья для нуждающихся семей, военнослужащих, переселенцев, на замену ветхого жилья; началось предоставление ипотечных кредитов.
Производство. Правительство и «Единая Россия» отменили ранее принятые закон о Бюджете развития и другие связанные с ним законодательные нормы, заморозили сверхдоходы от экспорта нефти и газе в Стабилизационном фонде, фактически отказавшись от активной промышленной, инвестиционной и инновационной политики. Альтернативный подход к формированию бюджетной и макроэкономической политики государства, предлагавшийся мною, был отвергнут. Лишь в последнем Послании президента Федеральному Собранию и в проекте бюджета на 2008 г. предусмотрены реальные меры по стимулированию инвестиционной активности, развитию промышленности, освоению перспективных направлений НТП; создан Банк развития. Спустя восемь лет правительство Путина вынуждено восстанавливать институты развития, разрушенные им же вследствие идеологических заблуждений.
Социальная сфера. Отказ федерального правительства и «Единой России» от выполнения социальных гарантий и сброс социальных обязательств в субъекты Федерации под предлогом «монетизации» льгот. 47 поправок, предложенных мною и другими депутатами фракции «Родина» с целью сохранения ответственности федеральной власти за базовые социальные гарантии, были отвергнуты единоросовским большинством в Госдуме. Одновременно партия власти изменила правовую форму бюджетных учреждений с целью коммерциализации образования, культуры, науки и здравоохранения. По доле расходов на эти цели в структуре ВВП Россия опустилась ниже Африки, вдвое отставая от среднемирового уровня.
Природная рента. Нам удалось убедить президента и правительство изымать природную ренту, но направлялась она не на социально-экономическое развитие страны, а в Стабилизационный фонд, на погашение внешнего долга, кредитование иностранных государств и поддержку американского доллара. Лишь в проекте бюджета на 2008— 2010 гг. правительство согласилось с нашими требованиями использовать нефтяные доллары на финансирование расходов бюджета.
Цены. Правительство и «Единая Россия» отвергли предложенный мною законопроект «Об основах ценообразования и контроле за ценами», согласившись лишь на незначительное расширение возможностей антимонопольной политики. Опережающее повышение тарифов на услуги естественных монополий, завышение цен на товары отечественного производства вывели российские крупные города в число самых «дорогих» в мире.
Коррупция, организованная преступность и терроризм. Правительство и «Единая Россия» «замотали» мои предложения об ужесточении уголовного наказания за преступления против несовершеннолетних, а также о введении прямой непосредственной уголовной ответственности чиновников за типичные злоупотребления служебным положением. По уровню коррумпированности Российское государство занимает одно из первых мест в мире, а по уровню эффективности — одно из последних.
Нищета, беспризорность. Правительство и думское большинство отвергли наши предложения о приоритетном финансировании расходов на обустройство беспризорных детей. Лишь в этом году нам удалось добиться введения федеральной ответственности за выплату детских пособий и их увеличения хотя бы до половины прожиточного минимума.
Капитал. Правительство и «Единая Россия» полностью либерализовали вывоз и движение капитала, отвергнув мои предложения о валютном контроле и не сумев реализовать меры, необходимые для использования рубля в международных расчетах. Вывоз капитала превысил 100 млрд. долларов в год.
Армия. Ликвидированы многие отсрочки по призыву в вооруженные силы с одновременным сокращением срока службы до одного года.
Культура. Отвергнуты все предложения фракции «Родина» о государственной защите духовно-нравственных ценностей в СМИ.
Окружающая среда. Правительством и «Единой Россией» отменены платежи за загрязнение в экологические фонды и механизмы защиты окружающей среды.
Внешняя торговля. Правительством согласованы во многом невыгодные для отечественных предприятий условия присоединения России к ВТО, закрепляющие пассивную политику государства в экономике при ее безусловной открытости.
Долги. Правительством осуществлено досрочное погашение большей части внешнего долга при фактическом отказе от выполнения долговых обязательств перед гражданами России по восстановлению их дореформенных сбережений.
Сегодня можно констатировать, что этот прогноз подтвердился. К сожалению, большинство граждан оказались не готовы к своевременному восприятию этой информации и дали власти мандат на продолжение политики, противоположной их интересам. Это элементарная логика политического выбора, и, надо признать, выбора честного — Путин никого не обманывал и проводил именно ту политику, о которой говорил и которую планировало его правительство еще до президентских выборов. Нам же остается делать выводы из ранее совершенных ошибок и надеяться на то, что российские граждане когда-нибудь научатся выражать и отстаивать свои интересы.
Чуда не будет — курс остается прежним
Страна переживает переломный момент. Серия чудовищных террористических актов, проведенных сразу же после очередного «урегулирования» политического кризиса в Чечне, показала, что у нас отсутствует система обеспечения национальной безопасности. Демонтаж социальных гарантий и обязательств государства, проведенный властью под видом «монетизации льгот», выявил, что у нас нет институтов социального государства. Наконец, «успешная» операция спецслужб по осуждению руководителя удмуртского отделения нашей общественной организации в связи с его политической деятельностью показала, что нам еще далеко до идеала правового и демократического государства.
Укрепление государства авторитарными методами при помощи спецслужб фактически вылилось в его дальнейшее ослабление. Коррупция, назначение руководящих кадров по принципу личной преданности, переход государственной власти к работе «по понятиям», а не по закону и прочие атрибуты нынешнего режима делают его заведомо неэффективным, неспособным решать задачи развития страны и обеспечения безопасности граждан. Мы стоим перед выбором: либо продолжение курса ухода государственной власти от ответственности за благосостояние общества ради обогащения правящей верхушки, либо кардинальное изменение этой политики в общенациональных интересах. Партия власти свой выбор, судя по ее действиям, сделала. Но выбор остается и за каждым гражданином нашей страны.
В ходе избирательных кампаний 2003—2004 гг. я не раз предупреждал: голосуя за партию власти, получишь продолжение ельцинских «реформ». Не прошло и двух месяцев после выборов, как на общество обрушилась новая волна реформаторского зуда. На этот раз объектом упражнений ультралиберальных фундаменталистов стала социальная сфера — под лозунгами «укрепления государства» путинские правительство и «Единая Россия» приступили к демонтажу его социальной составляющей.
Наивные граждане, ожидавшие после выборов кардинальных изменений в социально-экономической политике правительства, оказались разочарованными. Правительство и придворная партия «Единая Россия» решили освободиться от выполнения слишком обременительных, с их точки зрения, социальных обязательств. Если раньше государство выполняло эти обязательства хотя бы частично, стыдливо ссылаясь на недостаток денег, то нынешнее руководство решило вообще от них отказаться, отменив соответствующие законы и нарушив тем самым конституционный принцип социального государства. При этом речь идет не только о социальных льготах, но и о восстановлении дореформенных сбережений граждан, о нормативах финансирования отраслей социальной сферы, об условиях оплаты труда.
Суть ельцинской политики сводилась к отказу от ответственности государства за состояние экономики; в последующем государство отказалось от ответственности и за социальную сферу. При Ельцине граждан лишили права на общенародную собственность, обесценили сбережения и ввергли большинство населения в нищету. Затем отобрали права на социальные гарантии, восстановление сбережений, на государственную поддержку и защиту. Ельцин разрушил государство, прикрываясь переходом к демократии и рынку. Потом это разрушение было узаконено под разговоры о построении правового государства. Круг замкнулся: мы получили демократию без народовластия, рынок без конкуренции, государство без ответственности, гражданина без конституционных прав.
Чтобы понять, в каком положении мы оказались и что нас ждет дальше, необходимо разобраться в последствиях проводимой политики для основных социальных групп. Только по делам, а не по словам и лозунгам, можно определить ее истинный смысл. Главные вехи путинской политики прослеживаются в подписанных им законодательных актах: Земельном, Трудовом и Налоговом кодексах, а также в реформе жилищно-коммунального хозяйства, «социальной» реформе, в макроэкономической, бюджетной и структурной политике.
Последние остаются неизменными: взятый Ельциным курс на отказ государства от функций развития экономики продолжается. Макроэкономическая политика сводится к контролю над приростом денежной массы, порождающему хроническую нехватку кредитных ресурсов и денежный голод в реальном секторе экономики.
Ни признанным ученым, ни оппозиции не удалось убедить правительство в необходимости восстановления полноценной системы денежного обращения и в использовании главного рычага воздействия государства на экономический рост — управления кредитом посредством механизмов денежного предложения и рефинансирования банковской системы. Так и не заработали лишенные доступа к кредитным ресурсам банки развития. Вместо проведения политики кредитования экономического роста бюрократия Центрального банка свернула основные функции государственной банковской системы, привязав рубль к доллару и приватизировав принадлежащий государству эмиссионный доход. Правительственные и центробанковские финансисты вновь начали спекулятивные игры с раздуванием государственного долга, игнорируя уроки 1998 г. При рекордном профиците бюджета в 270 млрд. рублей и раздувшемся до 700 млрд. рублей Стабилизационном фонде правительство без какого-либо обоснования размещает в 2004 г. новые многомиллиардные долговые обязательства. Финансовая политика государства по-прежнему ориентирована на обслуживание интересов спекулянтов.
В результате реальный сектор экономики остается без внутренних источников кредитования, а немногие успешно работающие российские предприятия вынуждены брать кредиты за рубежом. При этом продолжается массовый вывоз капитала, который был легализован в недавно принятом новом законе о валютном контроле. Отказываясь от расширения внутренних источников кредита, Российское государство остается крупнейшим донором мировой экономики, вывозя в общей сложности уже более 50 млрд. долларов в год. Российская денежная система по-прежнему привязана к доллару, что препятствует выполнению ее основных функций, а финансовые потоки и банковское обслуживание российских предприятий постепенно перемещаются за рубеж.
Остались пустыми словами и многократно высказывавшиеся намерения о возврате природной ренты в доход государства, что позволило бы вдвое увеличить его финансовые возможности и снизить налоги на труд и производство. Пропрезидентская партия «Единая Россия» и правительство (далее мы будем называть их «партия власти») уже несколько лет заматывают принятие закона о налоге на сверхприбыль с недропользователей и осуществление других мер, направленных на восстановление государственного контроля над доходами от использования принадлежащих ему природных ресурсов. Рост мировых цен на экспортируемое из России сырье продолжает обогащать лишь небольшую группу тесно связанных с властной верхушкой лиц, ежегодно оставляющих по 20—25 млрд. долларов валютной выручки на своих зарубежных счетах.
Вместо того чтобы снизить налоги на труд и производство, компенсируя выпадающие доходы бюджета за счет доходов от использования государственной собственности (прежде всего природных ресурсов и прибыли Центрального банка), партия власти пошла по пути снижения расходов бюджета, направляемых на социальные нужды. Такая политика последовательно проводится в интересах получателей рентных сверхприбылей за счет всего населения. Главным источником доходов властвующей олигархии остаются сверхприбыли от эксплуатации природных ресурсов, естественных монополий, от финансовых спекуляций. На их сохранение в частных руках направлена макроэкономическая политика. Ее результат отражается в структуре распределения национального дохода,
львиная доля которого достается получателям рентных дохо дов, паразитирующим на фактическом присвоении государственной собственности и функций.
Ясно, что такая политика противоречит интересам 90% граждан, создавших национальные богатства и производящих основную часть национального дохода, живущих при этом на крайне низкие зарплаты и пенсии. Именно у них, в конечном счете, отбираются сверхприбыли от эксплуатации принадлежащих всему обществу природных ресурсов, именно за счет их наживаются задирающие цены монополии. Дискриминация трудящихся, работающих по найму, отчетливо проявилась и в навязанном партией власти новом Трудовом кодексе. Работников лишили значительной части прав и возможностей защищать свои интересы, в том числе права на коллективную защиту; профсоюзы отстранены от решения важнейших вопросов жизни предприятий, а работодатель получил право устанавливать 12-часовой рабочий день.
Новые достижения старого курса
После избрания Путина на второй срок его правительство приступило к демонтажу оставшихся еще механизмов государственных гарантий по защите права граждан на достойно оплачиваемый труд. В рамках кампании по «монетизации льгот» правительство инициировало поправки в недавно принятый Трудовой кодекс, разрушающие связь между минимальной зарплатой и прожиточным минимумом, которая составляет фундамент механизма социального партнерства. Федеральный минимум оплаты труда предложено отменить, обязательной для всей страны величины низшего разряда тарифной сетки (меньше бюджетнику заплатить нельзя) тоже не будет.
Под предлогом «монетизации льгот» государственная власть отказалась от выполнения своих социальных обязательств по широкому кругу жизненных интересов и прав граждан. В том числе:
- ликвидирован нормативный принцип формирования федерального бюджета по социальным обязательствам государства (отменены законодательно установленные норма тивы финансирования расходов на образование, культуру и науку);
- все вопросы исчисления заработной платы работникам бюджетной сферы, в т.ч. здравоохранения (установление систем оплаты труда, тарифных ставок, окладов, различных выплат), переданы на уровень субъектов Федерации и муниципальных образований;
- отменен ряд дополнительных выплат и льгот, определяющих возможность компенсации вредных факторов воздействия на организм работника;
- признан утратившим силу Закон РСФСР от 11 марта 1992 г. № 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях», что подрывает характерный для социального государства принцип партнерства во взаимоотношениях работодателей и работников;
- отменен закон, необходимый для восстановления дореформенных сбережений граждан, которые обесценились в ходе реформ;
- фактически отменены государственные гарантии по обеспечению лекарствами хронических больных сахарным диабетом, туберкулезом, онкологическими заболеваниями, психически больных, ВИЧ-инфицированных и склеротиков, а также бесплатное обеспечение лекарствами амбулаторных больных, исполнение обязательств по которым передано субъектам Федерации;
- отменены устанавливаемые на федеральном уровне ежемесячные пособия на детей;
- отменены права детей-сирот и прочих воспитанников интернатов и детских домов на бесплатный проезд в городском транспорте и бесплатный проезд к родственникам на отдых во время каникул (льгота оставлена только для воспитанников федеральных учреждений), а также на бесплатное обучение в ПТУ и на подготовительных курсах средних и высших учебных заведений.
Замена предметных социальных обязательств на частичные денежные компенсации противоречит принципам социального государства, которое гарантирует четко определенные права граждан, а не номинальные денежные доходы. Партия власти пошла на слом тех немногих элементов социального государства, которые ранее удалось выстроить, противодей ствуя ельцинской «шоковой терапии».
Самое удивительное заключается в том, что для проведения антисоциальной реформы нет никаких объективных причин.
Во-первых, она непродуктивна, так как подрывает основы механизмов социального партнерства в современном обществе. Социальные гарантии тесно связаны с экономикой знаний, опирающейся на массовое высшее образование и создание условий для реализации творческого потенциала каждого человека. Эта «социальная реформа» отбросила нас к ситуации эксплуатации труда и классовым антагонизмам позапрошлого века, что несовместимо с требованиями организации квалифицированного интеллектуального труда, определяющего конкурентоспособность современной экономики.
Во-вторых, ответственность за состояние социальной сферы сбрасывается на субъекты Федерации, что на фоне многократных различий в уровне среднедушевых бюджетных доходов между регионами ведет к дезинтеграции страны. Возрастание разрыва в уровне жизни людей несовместимо с конституционным принципом недискриминации граждан, в том числе в зависимости от места проживания.
В-третьих, реформа невыгодна экономически, так как влечет за собой увеличение бюджетных затрат на выплату компенсаций по льготам, которыми многие не пользуются. Вполне вероятно, что в этом заинтересованы определенные коммерческие структуры. В частности, приближенные к проводящим реформу чиновникам страховые компании, рассчитывающие на резкое увеличение пропускаемых через себя бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование. Как и приватизация, которая планировалась по идеологическим мотивам, а стала средством наживы приближенных к власти лиц, монетизация льгот обогатит посредников, допущенных властью к распределению бюджетных средств.
Монетизация льгот — далеко не единственное нарушение социальных прав граждан, осуществленное властью без какихлибо объяснений. В частности, не было никаких объективных причин для лишения граждан права на бесплатное бессрочное использование земли и введения механизма принудительной приватизации городской земли (в Земельном кодексе). И ре
комендации науки, и мировой опыт свидетельствовали о не целесообразности такого решения. Городскую землю следовало оставить в распоряжении муниципальных органов власти, введя механизм ее долгосрочной аренды для коммерческих организаций, а гражданам — сохранить права на бесплатное использование земли под жилыми домами и дачными участками. Но возобладал не здравый смысл, а личная заинтересованность проталкивавших Земельный кодекс чиновников, которые действовали в интересах финансовых спекулянтов, желающих поиграть на купле-продаже земельных участков, а также крупных землепользователей и коррумпированной части управляющих государственным имуществом лиц, которые рассчитывали поживиться на приватизации земли.
Еще более наглядно коммерческая заинтересованность прослеживается в «реформе» естественных монополий, направленных на их фактическую приватизацию. Если раньше выдвигались требования обеспечить прозрачность естественных монополий, сегодня речь идет о келейной приватизации электроэнергетики, частей «Газпрома», коммерциализации железных дорог в пользу лиц, управляющих естественными монополиями от имени государства. Приближенные к власти лица смогут изрядно приумножить свои состояния, а для всей страны это обернется существенным повышением тарифов работающих в частных интересах монополий.
Напрашивается вывод: главные мотивы, направляющие новый курс партии власти по старой дороге ельцинских «реформ», — банальное стремление к наживе близких к власти коммерческих структур и уход бюрократической верхушки от ответственности за выполнение государственных обязательств. Неудивительно, что последствия движения по этому курсу остаются теми же. С той лишь разницей, что Ельцин проводил политику разрушения, сопровождавшуюся резким ухудшением социально-экономических показателей, а Путин законодательно закрепил сложившиеся в результате ельцинских реформ социально-экономические отношения. В этом смысле он доказал свою эффективность в качестве преемника — власть олигархии сохранилась и даже укрепилась в экономической сфере, а политическая надстройка, будучи формально выведена из-под прямого давления олигархии, фактически продолжает обслуживать ее интересы. Структура власти стала более прозрачной и понятной, приобретя классическую форму пирамиды, замкнутой на одном лице. Похожим обра зом скорректирована и проводимая властью политика — она стала более последовательной и системной.
Внешне результаты этой политики различаются: при Ельцине — череда кризисов и чудовищный спад, при Путине — стабильные и сравнительно высокие темпы экономического роста.
Но, во-первых, рост во многом инициирован и поддерживается благоприятной для российского экспорта конъюнктурой мировых сырьевых и энергетических рынков. Его результатами пользуется незначительная часть населения, в основном — высокодоходные группы.
Во-вторых, это главным образом восстановительный рост выживших в ходе реформ производственных структур, и достигается он не благодаря, а, скорее, вопреки проводимой экономической политике.
В-третьих, после административного подчинения органов государственной статистики Министерству экономического развития и торговли достоверность официальных показателей экономического роста стала весьма сомнительной.
Российская экономика не столько развивается, сколько выживает. Пока еще работают общие системы жизнеобеспечения и ориентированные на мировой рынок сырьевые производства. Пока не удалось остановить деградацию научнотехнического и интеллектуального потенциала, ставшую следствием политики шоковой терапии 90-х годов. В сущности, правительство и не пыталось этого сделать. В результате Россия потеряла значительную часть потенциальных возможностей экономического роста, главным фактором которого сегодня является научно-технический прогресс.
Многие перспективные отрасли наукоемкого машиностроения, высокотехнологической промышленности и науки, имевшие конкурентные преимущества и высокий потенциал роста в масштабах мирового рынка, прекратили свое существование. Необратимому разрушению подверглось инвестиционное машиностроение, приборостроение, фармацевтическая и биотехнологическая промышленность, другие отрасли, имевшие огромный потенциал роста на мировом рынке. Россия утратила приоритет в космосе, на грани остановки находится авиационная и электротехническая промышленность, в которых еще недавно у России были конкурентные пре имущества на мировом рынке. Значительная часть россий ских ученых и высококвалифицированных специалистов переехали за рубеж, усилив своими знаниями и опытом позиции иностранных конкурентов.
Российская экономика продолжает стремительно деградировать, оттесняясь на сырьевую периферию мирового рынка и теряя по мере разрушения научно-технического и производственного потенциала возможности будущего самостоятельного развития. Многочисленные предложения ученых и специалистов о переходе к активной политике развития, предусматривающей формирование механизмов инновационной экономики, были оставлены правительством без внимания.
По сути проводимой политики нынешняя партия власти принципиально не отличается от своих предшественников — гайдаровского «Выбора России», черномырдинского «Нашего дома» и даже от Союза правых сил, активисты которого по-прежнему участвуют в деятельности правительства и привязанной к нему фракции «Единой России» в Государственной думе.
Главные признаки этой политики:
- отказ от сколько-нибудь серьезной государственной поддержки развития экономики, защиты интересов отечественных товаропроизводителей и внутреннего рынка, стимулирования инновационной и инвестиционной активности;
- привязка денежной системы к доллару и фактический отказ от государственной функции организации кредитования экономического роста;
- вывоз значительной части национального дохода за рубеж и утечка умов;
- систематические злоупотребления приближенных к власти монополистов своим доминирующим положением на рынке путем завышения цен и тарифов, что препятствует развитию механизмов конкуренции;
- присвоение доходов от использования государственной собственности, в том числе на природные ресурсы, небольшой группой приближенных к власти лиц;
- отказ от социальных гарантий и обязательств государства, чудовищная эксплуатация и недооценка труда наемных работников, обнищание большинства населения, демонтаж механизмов защиты прав и интересов граждан.
Эта политика проводится властвующей элитой в интере сах собственного обогащения и поддерживается коррумпиро ванной частью бюрократии, паразитирующими на рентных доходах монополистами и экспортерами российского сырья, сросшейся с властью организованной преступностью. По существу, это типичная для многих периферийных слаборазвитых стран политика присвоения национального дохода ориентированной на самообогащение властвующей верхушкой. Интересы последней объективно противоречат интересам подавляющей части граждан и общенациональным целям развития страны, поэтому главной угрозой для такого рода паразитической власти является собственный народ, возможности волеизъявления которого блокируются, а сам он подвергается деморализации и геноциду.
Кто выживет?
Первые шаги партии власти после сокрушительной победы на парламентских и президентских выборах должны развеять последние надежды всех здравомыслящих граждан на нынешнюю власть. Отказавшись от выполнения своих социальных обязательств, власть ясно дала понять: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Наиболее объективным показателем деятельности власти является средняя продолжительность жизни населения, которая снизилась с 67 лет в 1998 г. до 65 лет в 2002 г. Это самый низкий показатель в Европе.
Политика партии власти едва ли существенно преобразуется. Об этом свидетельствуют не только неизменность принятого еще Ельциным «курса реформ» и кадровый состав путинского кабинета министров, сформированного из малообразованных либеральных фундаменталистов и крупных бизнесменов, но и программные документы правительства на ближайшие годы.
Проект федерального бюджета на 2005 г., составленный в соответствии с президентским Бюджетным посланием, не оставляет никаких надежд на изменение социально-экономической политики по меньшей мере до конца упомянутого года. По-прежнему главным и по сути единственным приоритетом бюджетной политики государства остаются платежи по внешнему долгу, на которые приходится 17,4% расходов фе дерального бюджета. При этом, выплачивая столь крупные суммы иностранным и отечественным финансовым спекулянтам, партия власти наотрез отказывается от выполнения подтвержденных Конституционным судом и установленных законом обязательств по восстановлению дореформенных сбережений граждан.
Интересы людей для нынешней власти ничтожны по сравнению с интересами сросшихся с ней финансовых спекулянтов. В пользу последних правительственные финансисты искусственно раздувают государственный долг (по проекту федерального бюджета на 2005 г. он составляет 995,5 млрд. рублей), сооружая финансовые пирамиды государственных обязательств и необоснованно повышая процентные платежи путем трансформации символических нерыночных долговых обязательств в реальные рыночные. А ограбленным государством гражданам предлагаются вместо восстановления честным трудом заработанных дореформенных сбережений жалкие частичные компенсации по достижению предсмертного возраста. Отменяя под предлогом нехватки денег свои социальные обязательства, что равносильно банкротству, правительство искусственно поддерживает профицит бюджета и формирует Стабилизационный фонд, чтобы финансовые спекулянты не беспокоились о платежеспособности российского государства.
Проект федерального бюджета на 2005 г. подтверждает отказ партии власти от выполнения своих обязательств перед обществом. Отменены федеральные нормативы бюджетного финансирования отраслей социальной сферы, а ответственность за ее состояние сброшена на органы власти субъектов федерации, большая часть которых не имеет необходимых для этого доходов. Таким образом, граждане, нуждающиеся в государственном медицинском обслуживании, обучении своих детей, в благоустроенном жилье и социальной помощи, могут федеральную власть больше не беспокоить — она их проблемами заниматься не будет.
Почти во всех регионах баланс налогово-бюджетных отношений с федеральным центром является отрицательным. С отказом партии власти от общефедеральных социальных гарантий большинству регионов придется отказаться от значительной части социальных обязательств — в отсутствие ис точников их финансирования. Перед нуждающимися группа ми населения таких регионов встанет вопрос о самом смысле деятельности федеральной власти, которая приобретает все более паразитический облик. Во всяком случае, для нуждающейся в государственной поддержке части населения политика партии власти имеет явно негативные последствия. К этой категории населения относятся подавляющее большинство семей с двумя и более детьми, учащаяся молодежь, инвалиды, значительная часть ветеранов и пенсионеров, лишенных немалой доли заслуженных пособий и пенсионных выплат, а также работники бюджетной сферы и военнослужащие.
За последние годы было упущено множество возможностей успешных прорывов российских товаропроизводителей на мировом рынке из-за невыполнения правительством своих функций развития экономики. В частности, из-за отсутствия механизма кредитования и страхования экспорта (в развитых странах он осуществляется государственными экспортно-импортными банками) российские предприятия электротехнической промышленности, гидротехнического и мелиоративного строительства, тяжелого машиностроения утратили перспективные ниши на мировом рынке, проиграв тендеры при очевидных конкурентных преимуществах в себестоимости продукции. Из-за блокирования введения механизма лизинга гражданской авиатехники упущены колоссальные возможности роста производства современных российских самолетов и вертолетов, оцениваемые в миллиарды долларов. Из-за отсутствия системы государственного стимулирования инновационной активности не реализованы тысячи перспективных научно-технических разработок, многие из которых успешно осваиваются иностранными конкурентами при помощи российских специалистов.
Отказавшись под давлением лоббистов американских интересов от собственной орбитальной станции, Россия утратила монополию на важный сегмент мирового космического рынка. Стремительно исчезают завоеванные ранее преимущества в сфере ракетостроения, атомной промышленности, лазерных и биотехнологий, в других перспективных направлениях с огромным и быстрорастущим рынком.
Лишаясь преимуществ в сфере высоких технологий, Рос сия лишается будущего — современный экономический рост бо лее чем на 90% обеспечивается научно-техническим прогрессом. Странно, что партия власти этого не понимает, всерьез хвастаясь выходом России на первое место в мире по объемам экспортируемой нефти и закрывая глаза на утрату возможностей в сфере высоких технологий. А ведь цена единицы веса авиатехники более чем в 10 тысяч раз превосходит цену нефти; и соответствующим образом различается вклад производства этих товаров в национальный доход и экономический рост.
Сползание России на сырьевую периферию мирового рынка и утрата конкурентных преимуществ в высокотехнологической сфере уничтожают также возможности реализации творческого потенциала сотен тысяч работающих сегодня ученых, специалистов.
Беспомощность, некомпетентность и корыстолюбие власти оборачиваются трагедией для нынешнего и будущих поколений российских граждан, которые оказываются лишними при сырьевой ориентации экономики. Ведь добыча и транспортировка сырьевых товаров не требует больших трудозатрат — хорошие перспективы при продолжении нынешней политики власти будут иметь не более трети трудоспособных граждан.
Может быть, для минимизации «лишнего» населения нынешняя российская власть сокращает число больничных коек, попустительствует эпидемии СПИДа, свернула профилактику социально обусловленных болезней, десятикратно увеличила легальную дозу наркотиков, разрешаемую иметь при себе гражданам.
Власть против общества
Последствия политики нынешней партии власти для большинства населения мало чем отличаются от ельцинского геноцида. Цели самообогащения властвующей олигархии и бюрократической верхушки объективно противоречат общенациональным интересам и интересам большинства населения. Власть не защищает должным образом ни прав, ни социальных гарантий граждан.
Многим, конечно, удается не только сводить концы с кон цами, но и вполне успешно вести свои дела, добиваясь высо ких профессиональных результатов и благосостояния. Но достигается это не благодаря хорошим условиям, создаваемым государством, а в борьбе с порождаемыми нынешней властью трудностями и вопреки проводимой ею политике. По показателям коррупции, организованной преступности, количеству разоряющихся предприятий и убитых бизнесменов, стоимости жизни и уровня бедности Россия занимает одно из первых мест в мире.
У подавляющего большинства граждан нет оснований поддерживать нынешнюю партию власти. Понимая это, последняя пошла на свертывание демократических институтов и установление авторитарной системы правления, подчиняя президентской бюрократии не только правительство, но и парламент, судебную систему, СМИ. Главными средствами установления авторитарного режима остаются коррупция и страх, которые тисками сжали все ветви власти. Чиновникам разрешают брать взятки в обмен на политическую верность и готовность обеспечить спускаемые сверху директивы по количеству голосов за кандидатов партии власти на президентских и парламентских выборах. Те, кто проявляют несанкционированную самостоятельность, подвергаются преследованиям спецслужб, против них фабрикуются уголовные дела, или их безосновательно увольняют.
Многочисленные примеры снятия с должностей руководителей органов местного самоуправления, не обеспечивших в своих районах нужных результатов голосования за партию власти, доказывают серьезность ее намерений любой ценой удерживать господствующее положение. Преследование сотрудниками спецслужб представителей неугодных власти кандидатов в регионах становится типичной практикой политического процесса. А «дело Ходорковского» убедительно доказало бизнесменам, что любая политическая активность на федеральном уровне должна согласовываться с президентом.
Путем шантажа, бюрократического произвола и использования грязных технологий президентская администрация «зачищает» политическое пространство от нежелательных кандидатов, обеспечивая продвижение только лично преданных друзей на все сколько-нибудь значимые посты. Подтасовка итогов голосований, жесткая цензура в СМИ, бюрократиче ский произвол в отношении конкурентов стали привычными орудиями партии власти. Как показали действия Минюста в отношении партии «Созидание» и общественной организации «За достойную жизнь», нелояльные власти общественные организации и политические партии просто закрываются или не регистрируются.
Грубый политический произвол на федеральном уровне дополняется применением различных методов подавления оппозиции на местах. Многие региональные «фюреры» действуют примитивно и жестко, чтобы не допустить нежелательных конкурентов к участию в выборах — путем отказа в избирательном праве, шантажа и подкупа их соратников, привлекая для получения нужного политического результата правоохранительные органы, а подчас и организованную преступность.
Фактически завершилось начатое при Ельцине сооружение системы неограниченной власти «семьи», назвавшей себя олигархией, которая, согласно определению Аристотеля, означает власть богатых. Олигархическая форма правления была неэффективной уже в древности, а ее современное воплощение в условиях научно-технической революции, экономики знаний и гуманизации человеческих отношений выглядит нелепым анахронизмом плутократии. Стремление небольшой группы людей к неограниченной власти ради наживы не только лишает остальных граждан реальных возможностей отстаивать свои интересы и полноценно реализовывать свой творческий потенциал, но и подавляет конкуренцию в бизнесе, блокируя тем самым фундаментальные механизмы развития современной рыночной экономики.
При этом сама государственная власть, подчиненная частным интересам правящей верхушки, в отсутствие механизмов демократического контроля быстро коррумпируется и деградирует до уровня бюрократических кормушек. Круговая порука коррумпированных чиновников лишает государственную власть смысла деятельности, противопоставляет ее общественным интересам и делает государство неэффективным, неспособным не только решать задачи социально-экономического развития страны, но и поддерживать элементарный правопорядок и базовые условия жизнеобеспечения общества.
С кем вы, патриоты России?
Очевидно, что политика партии власти является антисоциальной не вследствие каких-либо ошибок или недоразумений. Это последовательная, системная политика, проводящаяся целенаправленно уже более десятилетия и имеющая идеологическое обоснование, навязчиво и небескорыстно пропагандируемое ультралиберальными проповедниками. Мол, каждый должен сам заботиться о собственном благе, и любая государственная поддержка рассматривается как «искажение рыночных сил», отклонение от оптимального распределения ресурсов, якобы автоматически совершаемого рынком. Она не будет изменена при нынешнем президенте, потому что он, судя по его делам и решениям, считает такую политику правильной и, вероятно, единственно возможной. Соответственно, политические силы левой ориентации не могут иметь никаких общих позиций с нынешней властью, которая проводит целенаправленную политику демонтажа социальных гарантий, отказа от конституционного принципа социального государства и действует вопреки общественным интересам.
Нет оснований для поддержки нынешней власти и политическими силами правой ориентации. Политика власти ведет к деградации человеческого потенциала и к расколу общества на антагонистические классы, в конечном счете — к утрате национального суверенитета. Она противоречит не только принципу социальной справедливости, но и идеологии общенационального сотрудничества и партнерства, сохранения традиционных культурных и морально-нравственных ценностей, которые должны отстаивать правые. Разумеется, речь идет о правых в классическом понимании этого термина, а не о «Союзе правых сил» и прочих космополитических организациях, ответственных за проводившуюся в последние годы политику предательства национальных интересов и именующих себя «правыми» для обмана публики.
Нет смысла поддерживать партию власти профсоюзам, выражающим интересы наемных работников. Вся социально-экономическая политика партии власти направлена против их интересов, вследствие чего за один и тот же труд российские работники получают вчетверо меньшую зарплату, чем их коллеги в развитых странах. В России один из самых высоких уровней эксплуатации труда; принятие нового трудового законодательства лишило трудящихся реальных механизмов защиты своих интересов, отбросив Россию на уровень производственных отношений позапрошлого века.
За исключением связанных с нынешней властью монополистов, паразитирующих на присвоении природной или монопольной ренты, большая часть отечественных товаропроизводителей, в особенности связанных с наукоемкой промышленностью, также не имеют оснований поддерживать нынешнюю власть, предоставляющую льготы их иностранным конкурентам и отказывающуюся помогать в развитии отечественным предприятиям.
Ученым, творческой интеллигенции, работникам культуры, образования и здравоохранения нет резона поддерживать нынешнюю партию власти, разве что в порядке соучастия в самоубийстве. Судя по бюджетной политике, эти сферы деятельности рассматриваются партией власти как ненужная обуза, отвлекающая ресурсы от целей обогащения властвующей олигархии, и финансируются по остаточному принципу. В ходе проведения антисоциальной реформы партия власти отменила законодательно установленные нормативы финансирования отраслей социальной сферы и сбросила с себя ответственность за ее состояние.
Таким образом, ни у левых, ни у правых, ни у профсоюзов, ни у товаропроизводителей, ни у творческой интеллигенции, ни у работников социальной сферы нет никаких оснований поддерживать нынешнюю власть, проводящую противоречащую их интересам политику. И тем не менее многие руководители оказывают партии власти политические услуги в обмен на «подачки с барского стола» или же из-за страха утратить свои кормушки.
Слабость оппозиции — это следствие своеобразной встроенности во власть многих ее лидеров, которые фактически предают интересы представляемых ими социальных групп за личный комфорт и материальное благополучие. Коррупция и шантаж, применяемые властью для нейтрализации оппозиции через управляемых и подставных лидеров, делают свое дело.
Чтобы добиться изменения проводимой в стране политики, следует отстранить от государственного управления нынешнюю партию власти, отражающую интересы коррумпированной бюрократии и компрадорской олигархии, блокирующей все попытки развернуть политику государства в интересах развития страны. Сделать это можно, только объединив общество на основе общенациональных ценностей, а для этого надо избавиться от приспособленчества, коррупции и предательства в руководстве оппозиционных сил. В нынешних условиях их необходимо организовывать снизу — не по сценариям президентской администрации, а путем прямого представительства социальных групп в создаваемых на основе общественной самоорганизации политических структурах.
Конечно, становление политических сил, реально представляющих интересы общества, в условиях авторитарного режима власти — дело весьма непростое. Но без этого добиться приведения политики государства в соответствие с общенациональными интересами не удастся. Разве можно всерьез надеяться на то, что назначенные президентской администрацией политические клоуны, которых мы видим на телеэкранах, или выстраивающиеся в очереди в кремлевских коридорах кандидаты на руководство левым, правым, патриотическим и прочими направлениями политического представительства, смогут обрести самостоятельность и выражать чьи-либо интересы, кроме интересов кукловодов? Участие в демократических декорациях политического театра нынешней авторитарной власти равносильно соучастию в преступлении против общества на самых постыдных ролях.
В условиях подчинения президентской клике всех ветвей власти, включая парламент, для выражения общенациональных интересов в противовес политике самообогащения властвующей олигархии и бюрократической верхушки остается только прямое волеизъявление народа. Для этого группой общественно-политических организаций предложено проведение общенародного референдума — в целях защиты социальных гарантий и принципов социального государства. Общественная организация «За достойную жизнь» инициировала обсуждение ключевых вопросов социально-экономической политики.
Опубликовано на сайте www.glazev.ru 17 ноября 2004 г.
ЛюДЯм ПРЕДЛОЖИЛИ САмИм РЕШАТЬ СВОИ ПРОБЛЕмЫ
Из этого следует, что каких-либо попыток восстановить социальные гарантии ни президент, ни правительство, ни думское большинство предпринимать не станут. В лучшем случае они продолжат разговоры о неудовлетворительном исполнении законов, в том числе и закона о монетизации льгот. Хотя социальное законодательство в нынешних условиях и не может исполняться лучше, чем оно исполняется: у большинства регионов просто нет денег на финансирование соответствующих обязательств. Правительство и думское большинство начинают перекладывать ответственность за неудовлетворительное проведение реформы, породившее народные волнения в начале 2005 г., на губернаторов. Они, мол, виноваты в провале монетизации. Это лукавство. Как и стремление искать подстрекателей среди политических оппонентов, как и попытки доказать, что народные выступления не возникают спонтанно, а кем-то провоцируются.
На самом деле не стоит здесь применять теорию заговоров. Все проще: народ чувствует себя обманутым, возмущен циничностью властей.
Мы уже не раз слышали от представителей власти рассуждения о том, что гражданам России мешает жить их собственный менталитет. Однако, как представляется, не в менталитете тут дело.
В том, что размеры компенсации сильно занижены, убеждены многие эксперты и экономисты. Например, льготы Героя Советского Союза стоили в 2005 г. около 30 тыс. рублей в месяц (бесплатный проезд, тарифы на коммунальные услуги, установка телефона и т.п.). А правительство предлагает вместо них компенсацию в 3,5 тыс. рублей. Согласитесь, разница ощутимая. Также предлагается заменить льготы военных: 700—800 рублей вместо бесплатного проезда, льгот на путевки, установки телефона и многого другого. А также на право членов семей военнослужащих пользоваться ведомственными медицинскими учреждениями. Далее. В Москве стоимость услуг, предоставляемых чернобыльцам, оценивается в 2630 руб лей. Правительство же предлагает каждому из них не более 1700 рублей. И так по всем категориям льготников.
Но самое невероятное: правительство даже не определило источники финансирования навязываемых денежных выплат. То есть 30 млн. человек лишаются льгот без гарантий их компенсации. Счетная палата пыталась выяснить, сколько денег правительство планирует выделить на компенсацию отменяемых льгот. Но сделать это не удалось. Как написано в отчете Счетной палаты, «в связи с неопределенностью размеров выплат оценить объем необходимых ресурсов федерального бюджета на эти цели не представляется возможным»…
Обосновывая свою политику, президент сформулировал несколько тезисов. Каждый из них является спорным.
Во-первых, он заявил, что в России слишком много льготников. Подобное мы слышали многократно от министра Кудрина, но слышать это от избранного народом главы государства еще не доводилось. Путин вспоминает, что в советские времена льготников было меньше. Но тогда за проезд в общественном транспорте мы платили 3—5 копеек, телефонные разговоры и коммунальные услуги предоставлялись по символическим ценам, все получали бесплатное образование и медицинское обслуживание, бесплатное жилье, приобретали предметы первой необходимости по низким фиксированным ценам. Иными словами, социальными льготами пользовалось все население. При всех своих недостатках в послевоенный период Советское государство было социальным, и оно на практике реализовывало принцип социальных гарантий для каждого человека.
Второй тезис президента заключается в том, что отмена социальных гарантий будет компенсирована денежными выплатами. Собственно в этом и заключается суть монетизации льгот. В обоснование этого тезиса он ссылается на трехкратное увеличение расходов федерального бюджета на выполнение государственных обязательств по отменяемым социальным гарантиям. Но этот формальный подход не работает, когда дело касается конкретного человека. У каждого свои индивидуальные потребности в лекарствах, транспортном обслуживании, телефонных разговорах… При всеобщей уравниловке страдают самые нуждающиеся, а те, кто раньше социальными льго тами не пользовался, направляют полученные от государства деньги на другие цели. В результате усиливается социальное неравенство и растет общественное недовольство.
Общественное мнение воспринимает эту реформу как попытку государства откупиться от выполнения своих социальных обязательств жалкими денежными подачками. Последних не хватит на адекватную компенсацию всех отменяемых социальных гарантий. Их суммарная величина с учетом отмененных субсидий по коммунальным услугам, транспорту и лекарствам как минимум впятеро превосходит величину денежных выплат.
Конечно, далеко не все эти социальные обязательства государства финансировались, общий дефицит по ним составлял не менее полутриллиона рублей и частично ложился на дополнительные издержки коммунальных и транспортных организаций. Но, во-первых, реально нуждающиеся граждане положенные им льготы «выбивали» из органов власти, что позволяло им сводить концы с концами. Во-вторых, прежде чем заменять социальные гарантии явно неадекватными денежными компенсациями, следовало хотя бы попытаться увеличить доходы бюджета для покрытия дефицита по социальным расходам. Только за счет справедливого налогообложения природной ренты бюджет мог бы получить дополнительные средства, достаточные для полного финансирования социальных обязательств.
Но этого сделано не было. Поэтому разговоры о том, что отменяемые социальные гарантии будут компенсированы приобретением соответствующих услуг, вызывают недоумение. Эти рассуждения богатых характеризуются поговоркой: «Сытый голодного не разумеет».
И, наконец, третий аргумент: ухудшение уровня жизни 30 млн. льготников в связи с социальной реформой можно компенсировать путем повышения пенсий. Здесь президент продемонстрировал непонимание ситуации. Впервые с 1998 г. правительством и думским большинством в 2005 г. было запланировано снижение реальной величины пенсий — вследствие дефицита Пенсионного фонда в размере 83 млрд. рублей. Это — прямое следствие снижения социального налога, в результате чего на фоне сверхприбылей от экспорта неф ти и газа реальная пенсия россиян уменьшается. Мы говорили о том, что для сохранения нынешнего уровня покупательной способности пенсии индексация должна быть втрое больше, чем та, что установлена сегодня бюджетом Пенсионного фонда. Очевидно, что обещанной надбавки в 240 рублей не хватит даже для того, чтобы компенсировать инфляционное обесценение пенсий.
Компенсация инфляционного обесценения пенсий и замена деньгами отмененных льгот — это разные вещи. Президент же пытается убедить население, что эти 240 рублей как раз и есть компенсация потерянных льгот, хотя это лишь выполнение законом установленной обязанности государства своевременно индексировать уровень пенсий в соответствии с темпом их инфляционного обесценения.
Затеянная реформа не сводится к монетизации льгот. Это, прежде всего, передача социальных обязательств государства с федерального уровня на региональный. Монетизация касается лишь незначительной части граждан, прежде всего ветеранов войны, заслуги которых настолько неоспоримы, что власть не решилась на них посягнуть, и частично инвалидов, на приобретение лекарств для которых выделяется 50 млрд. рублей.
Федеральная власть фактически отказалась от ответственности за финансирование ЖКХ, средней школы, здравоохранения, за выплату детских пособий. Все сброшено на регионы, у которых на выполнение социальных обязательств денег нет. Исключением стали лишь Москва и Тюменская область. Расходы бюджетов на душу населения в столице в 15 раз превышают аналогичные расходы на Северном Кавказе. Таким образом, набор социальных гарантий для россиянина зависит от места его проживания.
В таких условиях трудно смотреть в будущее с оптимизмом. Я уже упоминал об отказе государства индексировать пенсии в полном объеме. Кроме того, нашим гражданам предложено финансировать больничный лист не за счет фондов социального страхования, а за счет работодателя, который должен оплачивать первые два дня больничного. Человека ставят в конфликт с работодателем. Между тем понятно, что люди болеть меньше не станут. Переносить недуг они будут на рабочих местах. Что касается бесплатного и льготного ле
карственного обеспечения, то попытка заменить их денежными выплатами — это нарушение права на жизнь. Это право не может быть оценено в 400 рублей на нос. Кому-то оно обойдется в 5 тыс. рублей, другому — в 10 тыс. рублей, третьему право на охрану здоровья вообще ничего не стоит, потому что он здоров, слава богу. Мы полгода объясняли власти, что нельзя такой закон принимать. Закон № 122 плох не потому, что его плохо исполняют, а потому, что он такой, какой есть, и по-другому не может реализовываться.
Идеологическая основа проводимой политики — доктрина рыночного фундаментализма. Она заключается в том, что рынок сам все расставит по местам. И государству нечего делать ни в экономике, ни в социальной сфере. Не надо волноваться об управлении имуществом, его следует лишь приватизировать. Не важно как — лишь бы раздать собственность в частные руки; желательно в свои. Не надо думать о гражданах. Они сами позаботятся о себе и только лучше будут работать, лишившись бесплатного здравоохранения и образования…
Следует отметить, что подобный подход уникален своей безответственностью. Ни в Европе, ни в США, ни в Японии никакого рыночного фундаментализма в социальной сфере нет и в помине. Блага и услуги социальная сфера предоставляет не ради текущей прибыли, а ради развития нации и благосостояния людей.
Во всем мире сегодня две трети инвестиций — это инвестиции в человека. Всеобщее доступное высшее образование, бесплатное здравоохранение, бесплатный доступ к информации — это то, без чего современная экономика не может работать.
На фоне отмены льгот, свертывания практически всяких форм государственной поддержки детей, включая отмену школьных завтраков, российское правительство платит миллиарды долларов по внешним долгам, списывает долги Сирии и Ираку, досрочно погашает долги иностранным кредиторам. Россия также ежегодно теряет десятки миллиардов долларов, не возвращенных от экспорта нефти и газа.
А по уму нужно было бы вернуть природную ренту в доход бюджета и за счет этого профинансировать все социальные обязательства, как это делается во многих нефтедобывающих странах. Там нефтяные компании, как инвесторы, ориентируются на норму прибыли в 15—20%; все, что сверх этого, — природная рента, которая изымается государством как собственником недр. В России же более половины сверхприбыли, достигающей 170%, остается в карманах недропользователей.
Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, нужны внятные и ответственные действия государства. Надо обучить наших граждан так защищать свои интересы, чтобы люди, стоящие у государственной власти, и не мыслили себе другой политики, кроме той, которая выражает национальные интересы. Добиться содержательных изменений можно не в результате народного бунта, а путем организации народного волеизъявления в законных, правовых формах.
Именно поэтому мы считаем необходимым проведение общероссийского референдума «За достойную жизнь». Это цивилизованная форма организации протестного движения наших граждан за изменение социально-экономической политики государства. И сбор подписей, и голосование приведут к реальным политическим последствиям. Власть будет обязана воплотить волю народа в жизнь.
Нам нужен референдум в масштабах всей страны. Мы предлагаем восстановить социальные гарантии с сохранением права выбора получения их в деньгах или в натуральной форме. Восстановление дореформенных сбережений — еще один очень важный пункт. Мы также поднимем вопрос оплаты труда: минимальная оплата труда и базовая пенсия должны быть не ниже прожиточного минимума… Референдум мы готовим по всему комплексу социальных, экономических и политических вопросов.
Мы твердо знаем, что за нами Россия, ее многонациональный народ, ее дети. Помимо угроз, исходящих извне, у нас есть еще один коварный враг — страх, неуверенность в собственных силах. Мы не должны бояться мифов, что уже ничего нельзя изменить. Мы должны быть твердо уверены, что жизнь и процветание нашего Отечества — в наших руках.
Статья подготовлена на основе материала, выставленного на сайте www.glazev.ru 27 января 2005 г., а также публикаций в газете «Южный Урал» (3 августа 2004 г.) и ростовской областной газете «Молот» (1 марта 2005 г.).
ПЛАНИРУЕмЫй КРИЗИС
Более восьми лет назад вышло второе издание моей книги «Геноцид», в которой обосновывалось обвинение действовавшего в те годы руководства страны в политике геноцида народа России. Была надежда, что со сменой власти в 2000 г. тема изведения правительством собственного народа останется в прошлом. Поэтому я отказался от переиздания книги в третий раз. И, к сожалению, ошибся.
Вопреки популистским декларациям власти, реально проводимая политика в здравоохранении, образовании, культуре, а также госрегулирование экономики противоречат интересам подавляющего большинства граждан России, ограничивают их возможности повышения благосостояния, ухудшают уровень и условия жизни, тем самым нарушая конституционное право на достойную жизнь.
Согласно Конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» геноцидом признается преступление, совершаемое «с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую». Под геноцидом совсем не обязательно подразумевается применение физического насилия и ведение войны. В качестве инструментов преступления Конвенция выделяет «предумышленное создание для какой-либо группы людей таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее», а также «меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы».
Нет сомнений, что удержание оплаты труда гражданина России на уровне ниже прожиточного минимума в течение многих лет при наличии объективной возможности ее увеличения является, по сути, геноцидом против работников и членов их семей.
Нет сомнений, что отсутствие достаточных мер по обустройству беспризорных детей, по оказанию должной помощи сиротам, так же как и детям из бедных семей, при наличии возможности такую помощь предоставить есть проявление политики геноцида.
Нет сомнений, что не вызванное какими-либо объективными причинами ухудшение медицинской помощи старикам и инвалидам при наличии возможности такую помощь оказать является в отношении их геноцидом.
Как известно, нынешние руководители Российского государства освободили федеральную власть от выполнения многих жизненно важных для миллионов людей социальных обязательств. Сегодня федеральное правительство фактически отказалось нести ответственность за народное образование, здравоохранение, культуру и жилищно-коммунальное хозяйство. Подавляющую часть расходов на эти цели финансируют субъекты Федерации и органы местного самоуправления.
После проведения социальной реформы, завершившейся принятием печально известного закона № 122, федеральный центр сбросил в регионы заботу о ветеранах труда, выплату детских пособий и компенсаций жертвам политических репрессий. Эту ответственность регионы нести не должны и объективно не могут. За исключением Москвы и Тюменской области — они не имеют источников дохода, необходимых для выполнения переданных им обязательств даже на минимально приемлемом уровне.
Отказ федерального центра от выполнения социальных обязательств происходит на фоне резкого роста его доходов. С конца 1998 г. финансовые ресурсы государства возросли в несколько раз. Казалось бы, появились объективные возможности стимулирования научно-технического прогресса, обустройства сотен тысяч детей-беспризорников, повышения до достойного уровня оплаты труда и даже восстановления дореформенных сбережений населения, что позволило бы преодолеть массовую бедность. Но не тут-то было.
Сверхприбыли от нефтегазового экспорта лишь частично были направлены на решение актуальных социально-экономических проблем. Большая их часть потрачена на досрочное погашение внешних долгов, накопление валютных резервов и создание Стабилизационного фонда, приобретение дворцов, спонсирование зарубежных футбольных клубов и проведение других благотворительных акций в пользу западноевропейского и американского истеблишмента. Все это делается для демонстрации иностранным кредиторам платежеспособности Российского государства ради престижа его руководителей и связанных с ними олигархов, хранящих за рубежом миллиарды долларов и опасающихся их конфискации.
Начиная с 2000 г. за пределы страны было перемещено — по официальным и нелегальным каналам — свыше 300 млрд. долларов. Этих денег хватило бы на восстановление дореформенных сбережений и сохранение социальных гарантий российским гражданам, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования, транспортной инфраструктуры, а также на стимулирование инновационной и инвестиционной активности, что позволило бы вывести экономику страны на путь быстрого роста. Однако для руководителей Российского государства есть нечто поважнее благополучия миллионов собственных граждан.
Может быть, они жертвуют интересами российских вкладчиков, пытаясь избежать конфискации нелегально перемещенных за рубеж миллиардов долларов по обвинениям в коррупции в случае неспособности России выплачивать внешний долг? Предоставляя натовским государствам почти беспроцентные кредиты в сотни миллиардов долларов, выводимых государством из экономики, они надеются откупиться от Гаагского трибунала?
Нам важны не столько мотивы абсурдных и вредных для страны решений, сколько их ужасающие последствия. Проводимую в стране политику можно считать продолжением геноцида большей части населения России. Разница лишь в том, что при Ельцине социальные гособязательства не выполнялись под предлогом отсутствия денег. Теперь же деньги на их выполнение у государства есть, но эти обязательства просто отменили, исходя из принятой властью идеологии самоустранения от ответственности.
Коррумпированность и неэффективность правоохранительных органов ведет к разгулу преступности, по числу жертв которой Россия занимает одно из первых мест в мире. Отсутствие действенной борьбы с фальсификацией товаров и фактическое игнорирование прав потребителей приводит к отравлениям, жертвами которых ежегодно становится до 50 тыс. человек. Нежелание государства обеспечивать периодическую бесплатную диспансеризацию и вакцинацию граждан влечет рост заболеваемости и преждевременную смертность сотен тысяч людей. Фактическая отмена социальных гарантий, отсутствие возможности трудиться и реализовывать свой творческий потенциал ведет к массовой деморализации населения, росту наркомании, алкоголизма и самоубийств, по показателям которых Россия лидирует в мире.
Недобросовестность и безответственность нынешнего Российского государства выражается в сокращении численности населения России на полпроцента ежегодно. Продолжительность жизни в нашей стране на 12 лет меньше, чем в США, на 8 лет меньше, чем в Польше, на 5 лет меньше, чем в Китае. Ожидаемая продолжительность жизни гражданина России в 2004 г. составила 65,5 года, в том числе у мужчин — 59,1 года, у женщин — 72,5 года. Естественная убыль населения — 5,5%.
На совести руководителей современного Российского государства более 16 млн. преждевременно умерших граждан, которых проводимая властью политика лишила необходимых средств к существованию. К этому количеству огромных потерь человеческого потенциала следует прибавить около 8 млн. граждан, доведенных такой политикой до отчаяния и опустившихся на социальное дно. Также на совести руководителей судьба более 10 млн. молодых семей, не решающихся завести ребенка из-за отсутствия нормальных жизненных условий, гарантий безопасности и возможности дать детям образование в будущем.
Но наиболее ярко признаки геноцида проявляются в государственной политике здравоохранения.
Реформирование здравоохранения проводится под громкие фразы о необходимости повышения качества медицинских услуг и их доступности. Однако для достижения провозглашенных целей власть не планирует увеличивать государственные ассигнования или отрабатывать реальные механизмы ответственности за оказание медицинских услуг должного качества.
Прежде всего не решается ключевая проблема — финансирование отрасли. Для ее нормального функционирования необходимо удвоение расходов, а для развития — их утроение. Вместо выделения необходимых средств из государственного бюджета в качестве ключевого принципа делается
упор на коммерциализацию медицинских услуг. Однако это не только не решит задачу повышения доступности и качества медицинской помощи, но повлечет за собой дальнейшее ухудшение медицинского обслуживания для большинства российских семей.
Правительственный подход к реформированию здравоохранения исходит из неверного критерия эффективности отрасли, в качестве которого рассматривается минимизация государственных расходов на единицу оказываемых населению медицинских услуг. Это ведет к замене медицинской помощи больному формальной медицинской услугой, которая фиксируется на бумаге в показателях отчетности за потраченные медиками время и деньги. Место пациента занимает его статистический суррогат, а место врачебной практики — формальные процедуры финансово-статистической отчетности.
Для удобства страховых компаний и упрощения финансового планирования предлагается перейти от сметного принципа финансирования учреждений здравоохранения к нормативам выделяемых денег на одного больного в среднем. Как считают в Минздравсоцразвития, стандартизация медицинских технологий позволит конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить ее качество. Реализация государственных гарантий будет проходить в рамках стандартов с утвержденным прейскурантом цен на медицинские услуги и лекарственные средства. Будет законодательно установлена система стандартизации медицинской помощи и осуществлен переход от содержания лечебно-профилактических учреждений на принципы финансирования медицинской помощи по стандарту ее оказания, вне зависимости от места ее предоставления.
Но здравоохранение — слишком сложная и многопрофильная отрасль, чтобы переводить работающие в ней организации на нормативно-подушевое финансирование. Это повлечет упрощение медицинских услуг и погубит специализированную высокотехнологическую медицину, в том числе и как науку. Отказ от сметного финансирования государственных медицинских учреждений дополняется изменением их организационно-правовой формы — переходом на самоокупаемость и фактическим отказом государства от функции собственника. По замыслу реформаторов государство долж но отказаться от управления ресурсами (основными фондами, технологиями, койко-местами и т.п.) и перейти исключительно к манипулированию расходами на основе формально устанавливаемых нормативов. В итоге реальная работа по повышению доступности качественной медицинской помощи подменяется доходящим до абсурда формально-бюрократическим нормированием всевозможных показателей.
Авторы реформы имеют примитивное представление о медицинской услуге. Они добиваются приобретения ею «свойств товара», который может быть оценен и произведен в соответствии с потребностью. Но последняя в такой модели рынка медицинских услуг имеет форму платежеспособного спроса, который сегодня ограничен крайне низкими доходами граждан и скудными государственными ассигнованиями. При таком подходе неизбежен дальнейший упадок системы здравоохранения, создававшейся исходя из общественных потребностей и возможностей обеспечить охрану здоровья граждан, а не из толщины их кошельков.
Куда правильнее планировать развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и основных фондов здравоохранения на основе научных рекомендаций, используя для этого имеющиеся у государства возможности. А финансирование текущих расходов следует вести исходя из состояния здоровья населения. У реформаторов же противоположная логика, ее следствием становятся абсурдные предложения о сокращении накопленных в здравоохранении ресурсов на фоне их критической недостаточности. Такие «государственные деятели» производят впечатление заскорузлых начетчиков, погубивших своим бюрократическим кретинизмом социалистическую систему. Правда, в советское время показатели численности врачей, количества койко-мест, необходимых приборов и лекарственных средств на душу населения планировались как постоянно растущие. Сегодня их предлагается зафиксировать на некотором «оптимальном» уровне, который определяют не медики-ученые, а бюрократы из министерства. Декларируется необходимость сокращения стационарной и увеличения амбулаторно-поликлинической помощи. Главная причина этого сдвига — экономия денег, которых в больницах на лечение больных тратится гораздо больше, чем расходуется при посещении ими поликлиник. К примеру, число койко-дней на одну тысячу человек в год уменьшилось с 3380 койко-дней в 2000 г. до 3200 койко-дней в 2005 г. А к 2008 г. сокращение планируется довести до 2500 койко-дней. При этом в качестве целевого показателя установлено всего 2000 койко-дней. Также планируется сокращение объема оказания скорой медицинской помощи на одну тысячу человек с 350 вызовов сегодня до 318 в 2008 г. при целевом показателе в 280 вызовов.
Едва ли сокращение объемов наиболее дорогой медицинской помощи будет компенсировано увеличением планируемых показателей объема помощи в дневных стационарах и амбулаторно-поликлинической помощи, которая становится все более формальной. Для удобства бюрократического планирования ее пытаются стандартизовать путем установления клинико-экономических протоколов на лечение каждой болезни. При этом нормативы расходов на одну человеко-болезнь придется дифференцировать по регионам в силу многократных различий их бюджетных возможностей. Иными словами, один человеко-грипп в Москве будет стоить в 4 раза больше, чем в соседней Рязани.
Вообще обоснованность целевых показателей здравоохранения для целей бюджетного планирования не выдерживает критики. Почему, например, целевой показатель охвата населения прививками против гриппа установлен на уровне 30%, а удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, — на уровне 65%? Даже когда целевые показатели соответствуют общепринятым представлениям о доступности качественной медицинской помощи, непонятно, что мешает обеспечить достижение этих показателей уже в ближайшем году? Когда речь идет о наиболее современных и технологически сложных видах медицинской помощи, планируемые показатели увеличения ее объемов находятся в явном противоречии с реальной практикой их финансирования. К примеру, декларируется повышение удовлетворения потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи с 20% в 2006 г. до 25 в 2007 г. и до целевого ориентира в 90% в перспективе. Реально же в 2007 г. объем ассигнований на эти цели (в том числе на приобретение медикаментов и оборудования) уменьшается более чем на миллиард рублей.
Удивительно, что даже такие очевидные с точки зрения социально-экономической целесообразности направления раз вития здравоохранения, как вакцинация населения, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и даже сохранение имеющейся инфраструктуры, никак не отражены в целевых показателях развития отрасли. Это при том, что до 80% медицинского оборудования сегодня физически изношено и морально устарело.
Утвержденные целевые программы в области здравоохранения недофинансируются на 25—70% в целях экономии нескольких миллиардов рублей. Тогда как специалисты здравоохранения пытаются доказать бюрократам от финансов, что каждый рубль, выделяемый на совершенствование медицинской помощи, например, детям и роженицам, оборачивается для государства экономией в 10 рублей вследствие снижения расходов на содержание детей-инвалидов, которых становилось бы меньше. Но даже эта логика не срабатывает.
По прогнозу Минэкономразвития планируемая реструктуризация здравоохранения и преобразование учреждений в новые организационно-правовые формы (речь идет о наделении государственных медицинских организаций коммерческими функциями и предоставлении им хозяйственной самостоятельности путем преобразования в так называемые автономные учреждения) приведет к тому, что численность работников, занятых в здравоохранении, сократится с 2005 по 2008 год на 800 тыс. человек. Только в 2004 г. из медицины ушли 2 тыс. врачей и 30 тыс. специалистов, относящихся к среднему медицинскому персоналу.
Бюрократизация здравоохранения доходит до абсурда при планировании доступности лекарственных средств. Согласно докладу Минздравсоцразвития «О результатах и основных направлениях деятельности на 2006 год и на период до 2008 года», уровень удовлетворенности спроса на медикаменты отдельным категориям граждан, имеющим право на государственную помощь в виде набора социальных услуг, планируется в 2007 г. на уровне 86%; количество лиц, воспользовавшихся правом на обеспечение лекарственными средствами, — на уровне 40%; обеспеченность детей социальной реабилитацией в специализированных учреждениях для несовершеннолетних — на уровне 64,1%; удельный вес безнадзорных детей — на уровне 2,41%. При этом целевые значения этих показателей устанавливаются соответственно на уровне 98%, 80%, 75% и 0,8%. Иными словами, правительство считает оптимальным наличие в стране сотен тысяч беспризорников.
Суть этой реформы заключается в сбрасывании властью ответственности за охрану здоровья населения и перевод медицинской помощи на коммерческие начала. Создается впечатление, что главными заказчиками реформы являются страховые компании, получающие немалые дивиденды от посредничества между государственным фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) и государственными же медицинскими учреждениями. Для расширения и облегчения страхового медицинского бизнеса государственные медучреждения наделяются коммерческими функциями и принуждаются к зарабатыванию денег путем продажи на рынке своих услуг, причем не обязательно медицинских. Вместо бюджета основным источником государственного финансирования здравоохранения становится система обязательного медицинского страхования, доля которого должна в будущем году повыситься до 50%, а в перспективе — до 70%. Предлагается отказаться от существующей сегодня двухканальной системы финансирования медицинских учреждений (из бюджетов и фондов ОМС), хотя это может повлечь существенное уменьшение средств, выделяемых государством на здравоохранение. Значительная часть расходов региональных бюджетов на содержание медицинских учреждений не может быть автоматически передана ОМС (коммунальные услуги, ремонт, приобретение оборудования). Более того, положенный в основу реформы подушевой принцип финансирования медицинских организаций на практике приведет к тому, что поликлиники потеряют возможности обновления основных фондов, а часть из них столкнется с необходимостью сокращения штатов.
Вместо того чтобы обосновывать действительно оптимальные планы развития отрасли и соответствующие им показатели финансирования, Министерство здравоохранения и социального развития довольствуется мерами «по повышению качества управления бюджетными средствами». Предполагается, что вместо государства главным гарантом здравоохранения выступят частные страховые компании, которые, однако, не собираются брать на себя ответственность и риски охраны здоровья населения. Но на максимально выгодных условиях и без какой-либо ответственности за здоровье лю
дей они пропустят через себя денежные потоки, выделяемые на здравоохранение. Ответственность подменяется отчетностью о выполнении формальных процедур.
Каких результатов можно ожидать? Анализ планов реформирования здравоохранения показывает, что «позитивными» результатами будут считаться рост прибыли и снижение рисков для страховых компаний. Доступность и качество медицинской помощи для населения будут снижаться. Чтобы бесплатно попасть к врачу-специалисту, пройти обследование, лечь в больницу или получить высокотехнологическую медицинскую помощь, больному придется долго ждать своей очереди. Причем в системе бесплатного здравоохранения основная роль отводится врачам общей практики, оказывающим стандартные универсальные услуги по выписыванию рецептов, заполнению медкарт и других документов.
Не решается и проблема преодоления чудовищной дифференциации регионов по уровню бюджетного финансирования здравоохранения. Наоборот, реформаторы исходят из сохранения этой дифференциации, подгоняя под нее инструменты планирования расходов на здравоохранение, дифференцируя по регионам стандарты оказания медицинских услуг и нормативы их финансирования. Тем самым подразумевается, что в каждой области будет свой объем реально предоставляемых гарантированных государством бесплатных медицинских услуг. Учитывая, что бюджетная обеспеченность населения разнится по регионам в среднем в 5—7 раз, а порой — и до 20 раз, не вызывает сомнений, что дифференциация регионов по расходам на здравоохранение на душу населения сохранится.
В развитых странах здравоохранение становится локомотивом современного экономического роста. Научно-технический прогресс в этой отрасли набирает темп, медицинская наука выходит на первое место по объему финансирования. Ряд ее достижений, особенно в сфере генетики и молекулярной биологии, революционизировал методы лечения многих болезней и позволил многократно повысить эффективность врачебной помощи. Именно на этом направлении следует добиваться кардинального улучшения медицинских услуг, а не пытаться стандартизировать их в условиях революционного совершенствования технологий.
Для повышения эффективности здравоохранения необходимо усилить его профилактическое направление. Едва ли эта задача может быть возложена на систему ОМС. Страховые компании не станут финансировать расходы своих клиентов на оплату услуг физкультурных и профилактических учреждений, на развитие соответствующей инфраструктуры. Нельзя ставить в зависимость от упомянутых компаний вакцинацию населения, контроль над состоянием здоровья детей. Эти задачи должно решать государство — за счет средств федерального бюджета.
Во главу угла политики развития здравоохранения следует поставить задачу удвоения расходов на эти цели. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения такие расходы должны составлять не менее 5% валового внутреннего продукта. В передовых странах их доля в ВВП — 8—10%. У нас же доля расходов на здравоохранение в ВВП продолжает сокращаться — с 2,9% в 2003 г. до 2,8% в 2004 г. и до 2,5% в 2005 г. Если исходить из объективных потребностей и необходимости сохранения имеющегося у нас потенциала здравоохранения, то расходы государства на финансирование здравоохранения должны быть увеличены хотя бы до 8% ВВП. Такие возможности сегодня у государства есть.
Опубликовано с сокращениями
в «Парламентской газете» 7 сентября 2005 г.
ТАКОй БюДЖЕТ ГОСУДАРСТВА ДЛЯ ОБЩЕСТВА НЕПРИЕмЛЕм
Выступление на заседании Государственной думы при рассмотрении проекта
федерального бюджета на 2005 год
На очередном заседании Госдумы перед вторым чтением бюджета мы рассмотрели законы о бюджетах трех социальных фондов: Пенсионного, Фондов обязательного медицинского страхования и социального страхования. Они сегодня отве чают за пенсии, здравоохранение, оплату больничных листов, путевок и так далее. На них лежит изрядная доля социальных обязательств государства перед гражданами.
Выяснилось, что правительство и думское большинство заложили в первом чтении в этих фондах совокупный дефицит более 200 млрд. рублей.
Дефицит Пенсионного фонда составляет 83 млрд. рублей.
Дефицит Фонда обязательного медицинского страхования — 103 млрд. рублей.
Дефицит Фонда социального страхования — более 20 млрд. рублей.
То есть в 2005 г. государство недофинансирует пенсии, сферу здравоохранения по сравнению со своими социальными обязательствами более чем на 200 млрд. рублей. И в том же федеральном бюджете, принятом в первом чтении, был заложен профицит в 270 млрд. рублей. Получается, что в одной части бюджетной системы профицит (в законе о бюджете), а в другой части бюджетной системы — дефицит (в социальных обязательствах). Чтобы полностью закрыть социальные обязательства перед пенсионерами и другими категориями граждан, можно было бы перераспределить средства. Уверяю, деньги на выполнение социальных гарантий и обязательств у государства есть. И доказать это просто: нужно из профицита федерального бюджета вычесть сумму дефицитов трех социальных фондов. И тогда профицит составил бы примерно 65 млрд. рублей.
Возникает вопрос: почему при столь низких зарплатах работников бюджетной сферы и многомиллиардных долгах по детским пособиям, катастрофическом состоянии жилищно-коммунального хозяйства и вымораживании зимой целых городов государство замораживает 719 млрд. рублей в Стабилизационном фонде?
Министр финансов Алексей Кудрин уверял нас на заседании Госдумы, что это нужно для борьбы с инфляцией. Но позвольте, бороться с инфляцией — задача Центрального банка. Он ее решает путем регулирования объема денежной массы. Правительство же должно исполнять обязательства перед обществом, а не отказываться от них под предлогом борьбы с инфляцией. Если и начинает бороться с ней, то совершенно
иными методами, за эффективное применение которых оно отвечает. Правительство обязано проводить активную антимонопольную политику, следить, чтобы монополисты не вздували цены, наживаясь за счет всего общества. Именно этот фактор генерирует сегодня инфляцию.
Центральный банк должен был бы избыточные деньги, каковыми они кажутся обленившемуся правительству, направить на развитие реального сектора экономики через кредитование коммерческих банков под обязательства эффективно работающих предприятий.
Парадокс: большинство населения не может свести концы с концами, у многих предприятий нет денег на финансирование научно-исследовательских работ и обновление новой техники, банковская система не кредитует инвестиции, а у правительства и Центрального банка — излишек денег. Стоит уточнить, что в нашей стране профицит бюджета возникает не из-за резкого повышения доходов государства и его умения хорошо хозяйствовать, а за счет отказа правительства исполнять несколько десятков федеральных законов о финансировании науки, образования, здравоохранения, культуры и социальных обязательств перед населением.
Не имея достаточных средств на выполнение социальных обязательств государства, правительство отказывается от возврата в бюджет доходов от эксплуатации принадлежащих государству природных ресурсов, уже два года Госдума не рассматривает необходимые для этого внесенные нами законопроекты. Легализован вывоз капитала, выставлена на распродажу большая часть оставшейся у государства собственности. Это означает, что нынешняя власть не хочет грамотно управлять ни деньгами, ни госсобственностью.
Думское большинство это красноречиво продемонстрировало, проигнорировав наши предложения по ликвидации «дыр» в социальной сфере. Хотя оно признало, что голосует за «дырявую» социальную сферу и что вследствие дефицита одного только пенсионного фонда в 83 млрд. рублей впервые за последние годы на фоне роста сверхприбылей от экспорта нефти и газа реальная пенсия граждан России в будущем году уменьшится.
Нам заявляют, что пенсии, наоборот, планируется повысить на 200 рублей. Однако планируется и инфляция — в 10%.
Возьмите среднюю пенсию и посчитайте. Выяснится, что 200 рублей так называемой надбавки не хватит для того, чтобы компенсировать инфляционное обесценивание пенсии. То есть на фоне растущих экономических показателей, профицита бюджета и Стабилизационного фонда, в котором скоро окажется более 700 млрд. рублей, государство идет на снижение жизненного уровня пенсионеров. Я считаю, что это совершенно несправедливо и экономически неправильно. Ведь у государства есть деньги для того, чтобы выполнить свои обязательства по пенсиям.
Еще более странная ситуация складывается по медицинским фондам. По обязательному медицинскому страхованию возникает дефицит в выполнении даже минимальной государственной программы гарантированной медицинской помощи более чем в 100 млрд. рублей. Дефицит образуется в регионах, потому что там нет источников его покрытия. Я впервые вижу финансовый документ, в котором дефицит больше самого фонда: всего ассигнования из федерального фонда медицинского страхования в регионы — чуть больше 30 млрд. рублей, дефицит — 103 млрд. рублей. И такой документ с «дырой», втрое превышающей запланированные ассигнования, думское большинство приняло.
Наконец, по Фонду социального страхования, из которого гражданам оплачивают больничные листы. Он для того и создан, чтобы работодатели, выплачивая социальный налог, могли не волноваться, что разорятся в случае эпидемии гриппа, которая выведет из строя значительную часть работников. Этот фонд призван минимизировать риски предприятий, равномерно распределив расходы по оплате больничных листов. Государственная дума приняла решение, что первые два дня больничного листа оплачивать станет непосредственно предприятие. То есть, фактически, человека толкают на конфликт с работодателем. Естественно, работодатель не будет рад претензиям заболевшего работника по оплате больничных листов.
К чему такой подлый ход? Люди просто не станут брать больничные листы. И тем самым Фонд социального страхования будет платить меньше денег за счет экономии на здоровье людей.
Мы находимся в Государственной думе в меньшинстве. Мы не можем навязать думскому большинству свое мнение, но мы в силах объяснить гражданам, что происходит в стране. У государства есть выбор. Правительство может взять на себя политическую ответственность и принять неправильное, вредное для народа решение. Но ему не удастся оправдаться, что предвидеть последствия собственных же решений было невозможно. Потому что мы предупреждали и предупреждаем: вследствие проводимой вами политики страна все дальше заходит в тупик. Она оказывается в зависимости от экспорта сырья при неспособности решать социальные и экономические задачи.
Люди в конце концов разберутся, кто есть кто в нашей политической системе и чьи интересы представляет «Единая Россия», захватившая в Думе подавляющее большинство и вместе с правительством не желающая ни за что отвечать.
Безответственность и некомпетентность власти наглядно видны по социальной реформе, которая вступила в действие с 1 января 2005 г. Ее смысл в том, что федеральная власть в лице правительства и «Единой России» отказалась выполнять практически все социальные обязательства, за исключением выплат Героям Советского Союза и России, а также некоторым категориям инвалидов. Все остальные обязательства сброшены на субъекты Федерации. Сегодня федеральная власть благодаря «Единой России» уже не отвечает ни за образование (оно целиком сброшено субъектам Федерации), ни за здравоохранение (3/4 расходов также отдано субъектам Федерации), ни за коммунальные услуги, бремя которых уже давно переложено на города, ни даже за детские пособия. Но у большинства регионов нет источников для оплаты свалившихся на них социальных обязательств государства. Следовательно, льготы большинству ветеранов будут просто отменены, а адекватной денежной компенсации не последует, потому что в регионах на нее просто не окажется денег.
Нынешняя власть так и не сумела освоить бюджетные инструменты поддержки экономического роста. В целом бюджетная политика правительства сдерживает рост экономики вследствие искусственного снижения конечного спроса в объеме 1,5—3% ВВП и сокращения инвестиционных возможностей в объеме 210,9 млрд. рублей, изымаемых без какой-либо нужды с финансового рынка в качестве государственных займов. До поры до времени эта негативная роль бюджетной политики скрывается за относительно хорошими макроэкономическими показателями. Но их видимое благополучие не отражает реального состояния российской экономики и основано на благоприятной ценовой конъюнктуре во внешнем мире и высоких темпах роста внутренних цен.
Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания, так как от достоверности показателей инфляции зависит реалистичность показателей экономического роста. Официальные оценки инфляции вызывают у специалистов все больше сомнений. В отсутствие альтернативных правительству центров анализа динамики цен мы не можем целиком полагаться на данные Федеральной службы государственной статистики. Она напрямую подчинена Минэкономразвития, «отвечающему» за темпы роста ВВП. Общественное мнение оценивает инфляцию не в 10%, как правительство, а в 20%. Действительно, цены на металл вырастут в этом году в 1,5 — 2 раза. На 20—30% подорожают хлеб, молоко, сахар, бензин, жилищно-коммунальные услуги. Если показатели инфляции скорректировать в соответствии с общественным мнением, то темпы экономического роста снизятся до нуля.
Мы не можем брать на себя ответственность за утверждение представленного правительством проекта федерального бюджета. Суть реализованной в нем политики — это отказ федеральной власти выполнять социальные обязательства перед обществом, а также отвечать за должное выполнение своих функций в области финансирования образования, науки, здравоохранения, культуры, модернизации экономики. Сбросив на регионы всю ответственность за выполнение социальных обязательств государства, федеральная власть в то же время лишила граждан права избирать губернаторов, установив полный политический контроль над региональными органами власти и освободив их таким образом от ответственности перед населением.
В интересах народа нашей страны мы должны добиться кардинального изменения социально-экономической политики государства, восстановить его социальные функции и гарантии гражданам. Мы не можем принять представлен ный правительством проект федерального бюджета и должны требовать его пересмотра и приведения в соответствие с социальными обязательствами государства.
Государственная дума, Пленарное заседание 25 сентября 2004 г.1
АЛЬТЕРНАТИВНЫй БюДЖЕТ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Выступление на заседании Народного правительства
Создается впечатление, что главная цель, которую реализует сегодня федеральная власть, — максимизация денег, вывозимых из страны. Если таковая цель действительно существует, то федеральную власть следует поздравить с успехом: за последние три года из России вывезено более 150 млрд. долларов. Это максимум за всю мировую историю вывоза капиталов. Следствием такой политики становится деградация общества, научно-производственной инфраструктуры. С учетом неполной загруженности производственных мощностей предприятий мы работаем всего лишь на одну треть от потенциальных возможностей.
Реальный результат политики правительства может быть измерен величиной вывозимых ресурсов. Вследствие только бездумного выведения денег из оборота в Стабилизационный
- Государственная дума не поддержала предложение Глазьева голосовать против проекта бюджета на 2005 г. в первом чтении.
Результаты голосования за принятие бюджета на 2005 г. в первом чтении:
за — 339 чел. (75,3%); против — 96 чел. (21,3%); воздержалось — 4 чел. (0,9%). Голосовало — 439 чел. (97,5%). Не голосовало — 11 чел. 2,4%. — Ред.
- Народное правительство было создано по инициативе политической коалиции «Патриоты России» в 2005 г. Сформировано 22 министерства и 4 комитета. Среди народных министров — известные политики, деятели культуры и здравоохранения, специалисты высокого класса. С.Ю. Глазьев является народным министром финансов. Народное правительство работает в ежедневном режиме на общественных началах. — Ред.
фонд потери составили в прошлом году минус 3,5% ВВП, ми нус 10% инвестиций. Политика правительства соответствует доктрине XVIII века, известной как меркантилизм, которая была опровергнута еще Адамом Смитом и популярно разъяснена Александром Сергеевичем Пушкиным в «Евгении Онегине»:
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
К сожалению, эти истины, известные всем школьникам, для нашей власти остаются тайной за семью печатями.
Мы должны понять, что государство — это не частная лавочка. Мы рассматриваем бюджет как важнейший инструмент решения социальных и экономических проблем государства. Главные из них — проблема вымирания народа и деградация человеческого потенциала, разрушение научно-производственного потенциала и фактический развал всей социальной и производственной базы страны. Мы говорим сегодня об удвоении объема инвестиций, удвоении доходов населения и повышении темпов экономического роста. Возможности для этого существуют. Важнейшая задача бюджетной политики государства заключается в том, чтобы эти возможности были реализованы. Главный принцип бюджетной политики народного правительства — безусловное и полное выполнение всех обязательств государства перед обществом.
Мы не делим наших граждан на федеральных и всех прочих. Все граждане страны равны независимо от того, живут ли они в Москве, на Северном Кавказе, в Сибири или на Дальнем Востоке. Всем нужно предоставить одинаковый пакет социальных гарантий. Этот принцип фактически подорван проводимой сегодня социальной реформой. Печально известный закон № 122 о ликвидации льгот фактически разрушил единство социального пространства страны, введя по сути антиконституционный порядок дискриминации граждан в зависимости от места жительства и работы.
Вашему вниманию представлен альтернативный бюджет, в котором реализуются принципы развития, выполнения со циальных обязательств государства перед обществом, реше ния наиболее актуальных экономических вопросов.
По нашим оценкам, уже в текущем году возможно повышение доходной базы федерального бюджета более чем на 964 млрд. рублей (более чем на 30%), в том числе увеличение налоговых доходов — на 723 млрд. рублей за счет увеличения доходной базы бюджета. Мы отвергаем такие направления, как повышение налогов на труд, на производство и инвестиции. Мы видим резервы повышения доходной базы бюджета за счет прекращения вывоза капитала из страны и за счет экономического роста. Благодаря этим двум направлениям можно увеличить доходы бюджета более чем на 200 млрд. рублей. Еще 338 млрд. рублей может дать возврат в доход страны сверхприбылей от эксплуатации природных ресурсов.
Можно было бы говорить о более высоких темпах повышения доходов бюджета. Если мы говорим о природной ренте, то на сегодняшний день, в совокупности имея более 50 млрд. долларов ежегодно сверхприбылей от эксплуатации природных ресурсов, государство изымает в бюджет немногим более 20 млрд. долларов. В то время как и в Европе, и в Америке, и в Арабских странах давно уже государством изымается более 85%, а во многих странах более 90% сверхприбылей от эксплуатации нефтегазовых месторождений. Если к этому добавить сверхприбыли от эксплуатации гидроэнергетических и других природных ресурсов страны, то сумма дополнительных доходов бюджета может быть удвоена. Иначе говоря, доходы бюджета увеличиваются за счет природной ренты не менее чем на 600 млрд. рублей в текущих целях.
Пора прекратить бесхозное использование наиболее ценных доходных источников государства. Это государственная собственность не только на недра, но и на основные фонды. Отдельно я бы выделил такой источник, как прибыль Центрального банка России, деятельность которого покрыта завесой секретности. Никто не может точно сказать, какова реальная прибыль Центробанка с учетом огромного количества резервов, которые он создает без каких-либо обоснований. Мы имеем возможность увеличения доходов федерального бюджета за счет этого источника на 241 млрд. рублей.
Мы считаем, что бюджет должен быть сбалансированным: доходы и расходы должны быть равны и должны сво диться без дефицита или профицита.
Необходимость формирования федеральным правитель ством гигантского стабилизационного фонда не выдерживает критики. Нам пытаются объяснить, что деньги копятся на черный день. Вдруг цены на нефть упадут, как потом покрывать расходы? — наивно вопрошают правительственные экономисты.
На самом деле для десятков миллионов граждан черный день уже наступил. Он давно наступил для миллионов детей, оставшихся без попечения родителей и брошенных на произвол судьбы государственной властью. Этот день наступил для 30 миллионов человек, которые лишились в прошлом году социальных гарантий без какого-либо объяснения. Он наступил для многих российских семей, которые не могут свести концы с концами; для 15% трудоспособных граждан, которые фактически лишены права на труд. Поэтому сегодня нет никаких оснований накапливать деньги.
Более того, если мы посмотрим, в каких же целях правительство накапливает Стабилизационный фонд, то обнаружим, что единственная цель — это погашение внешних долгов. С большим трудом удалось заставить федеральное правительство покрыть дефицит Пенсионного фонда из этого источника. Однако до сих пор не покрыты дефициты Фонда социального страхования, и гражданам предлагается самим договариваться с работодателями по оплате больничных. Не закрыт дефицит в бюджете Фонда медицинского страхования, в котором не хватает 83 млрд. рублей для финансирования официально установленных обязательств государства по оказанию медицинской помощи населению.
В этой ситуации досрочное погашение долгов и накапливание огромных денег только для того, чтобы иностранные кредиторы успокоились, нам кажется аморальным и неэффективным.
Мы предлагаем все средства Стабилизационного фонда направить на решение действительно критически важных проблем. Это позволит наряду с соблюдением принципа сбалансированности бюджета поднять расходы федерального бюджета более чем в полтора раза, доведя их до суммы более 1600 млрд. рублей.
В альтернативной концепции бюджета мы предлагаем направить на нужды социальной политики, в частности на под
держку образования и культуры сверх того, что запланирова но федеральным бюджетом, 563 млрд. рублей. При этом целевым образом выделить необходимые суммы для обустройства беспризорных детей, на увеличение фонда компенсаций для обеспечения социальных гарантий в регионах, для повышения заработной платы работникам бюджетных отраслей.
На развитие национальной экономики направить 430 млрд. рублей, в том числе 117 млрд. рублей — на поддержку агропромышленного комплекса.
Надо трансформировать Стабилизационный фонд в Бюджет развития, основные элементы которого могли бы включать:
— предоставление государственных гарантий под привлечение негосударственных инвестиций в перспективные проекты социально-экономического развития (лизинг авиатехники, сельхозтехники, судов, строительной техники и другого мобильного оборудования отечественного производства);
— субсидирование процентных ставок и предоставление гарантий по ипотечным кредитам для населения;
— беспроцентное кредитование проектов модернизации коммунальной инфраструктуры под гарантии субъектов Федерации и органов местного самоуправления на основе отечественных энергосберегающих технологий;
— субсидирование импорта перспективных технологий;
— патентование российских изобретений и защита прав российской интеллектуальной собственности за рубежом;
— предоставление беспроцентных кредитов венчурным фондам стимулирования инновационной деятельности и внедрения новой техники;
— создание инженерных центров и технопарков в местах высокой безработицы высококвалифицированных кадров.
Все эти направления расходования государственных средств носят антиинфляционный характер, так как предполагают производство и сбыт товаров и услуг в объемах, превышающих бюджетные ассигнования, или связывание свободных денег в среднесрочных инвестиционных проектах.
Необходимо наделить кредитными ресурсами Российский банк развития и Росэксимбанк в объемах не менее чем по 50 млрд. рублей с публикацией финансируемых ими про ектов. Росэксимбанк призван кардинально поднять россий ское присутствие на мировом рынке высокотехнологической продукции, предоставляя гарантии и кредитуя инвестиционное сотрудничество за рубежом как в традиционных (электроэнергетика, гидростроительство, военная инфраструктура, геологоразведка и др.), так и новых (атомная энергетика, авиакосмос) областях. РБР должен поддержать перспективные проекты комплексной переработки сырья, развития информационной инфраструктуры, освоения прорывных направлений НТП (биотехнологии, информатизация). Ориентируясь на повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и связывание свободных средств в перспективных эффективных инвестициях, эти ассигнования будут стимулировать экономический рост и способствовать макроэкономической стабильности.
Мы предлагаем выделить не менее 20 млрд. рублей на восстановление и развитие сети фондов поддержки малого предпринимательства. Имеющийся опыт свидетельствует о высокой эффективности кредитования малых и средних предприятий многими региональными фондами, обеспечивавшими возвратность более 85% кредитов.
Надо многократно увеличить ассигнования на обустройство беспризорников и сирот — это сэкономит многократно большие средства в будущем на правоохранительную деятельность.
Важно реализовать целевые программы освоения передовых технологий:
— в сельском хозяйстве на основе достижений молекулярной биологии, позволяющих многократно поднять эффективность растениеводства;
— в здравоохранении на основе достижений генетики, позволяющих многократно поднять эффективность лечения наиболее распространенных болезней с гораздо меньшими затратами;
— в образовании, необходимых для резкого повышения качества подготовки кадров, необходимых для экономики знаний;
— в ВПК в целях максимально полного использования имеющегося научно-технического потенциала.
Мы считаем необходимым восстановить государственный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы с перечис лением в него части сверхдоходов, взимаемых через экспортные пошлины на сырье.
В модернизации нуждается транспортная инфраструктура, включая реанимацию Северного морского пути и обустройство Трансполярного воздушного коридора.
Мы предлагаем восстановить налоговый инвестиционный кредит для предприятий, а также разрешить списывать все расходы на НИОКР на себестоимость.
Предприятиям надо разрешить формирование за счет части прибыли, не облагаемой налогом, своих резервных фондов, размещаемых в рублевых долгосрочных инструментах.
Целесообразно вложить 3 млрд. долларов в модернизацию представительств России за рубежом (посольства, торгпредства, дома русской культуры, русское телевидение, работа с соотечественниками и др.).
На поддержку отечественной науки и осуществление фундаментальных научных исследований необходимо выделить 90 млрд. рублей сверх того, что запланировало федеральное правительство только для сохранения российских научных школ, только для того, чтобы наш научный потенциал прекратил деградировать, а молодые специалисты могли трудоустроиться в России и не искать заработки за границей.
Модернизация жилищно-коммунального хозяйства — еще один приоритет. Предлагается направить на эти цели и развитие ипотеки 85 млрд. рублей.
Национальная безопасность и военная реформа также требуют увеличения ассигнований из федерального бюджета. Мы предлагаем направить на эти цели 237 млрд. рублей — сверх предусмотренных бюджетом страны на 2005 г.
Наконец, финансовая помощь бюджетам других уровней (это средства, выделяемые на выравнивание бюджетной обеспеченности жителей страны) должна быть увеличена на 150 млрд. рублей.
Наша обязанность — восстановить дореформенные сбережения граждан. Недопустимо дискриминировать российских граждан ради иностранных кредиторов. Мне представляется совершенно неприемлемой политика правительства по досрочному погашению внешних долгов при полном игнорировании своих обязательств перед собственными граж данами.
Восстановление дореформенных сбережений граждан — приоритетное направление распределения дополнительных доходов бюджета. Это важно не только для восстановления справедливости и законности, но и для экономического роста.
Хочу объяснить, как мы получили цифры расходной части бюджета. Это прямой расчет тех минимальных потребностей, которые необходимы для сохранения сети бюджетных организаций. Правительство предлагает отказаться вообще от содержания этой сети, введя так называемый проектно-целевой принцип финансирования бюджетной сферы. По сути, это означает коммерциализацию социальной сферы и отказ от ответственности за содержание школ, больниц, научных организаций. Мы, напротив, считаем необходимым и должны гарантировать сохранение сети бюджетных учреждений, сохранив им и сметное финансирование.
Вторая предпосылка расчета бюджетных расходов — повышение заработной платы работникам бюджетных отраслей.
Третья предпосылка — прямой счет расходов на решение наиболее актуальных социально-экономических проблем в зависимости от того, сколько людей нуждается в поддержке.
И, наконец, нормативы, которые отработаны в мировой практике. Это прежде всего выделение соответствующего объема средств в пропорции к валовому внутреннему продукту на цели здравоохранения, образования и науки. В соответствии с мировой практикой, мы считаем, что на образование должно выделяться около 10% от национального дохода, на здравоохранение — от 6 до 8% от валового продукта, на науку — не менее 3%. Это нормативы развитых стран. Нам следует к ним стремиться.
В отличие от правительства, которое не знает, куда направить деньги, мы хорошо себе это представляем. Мы видим реальные возможности удвоить темпы экономического роста, объем инвестиций и темпы роста доходов граждан, опираясь на перспективные направления развития нашей экономики.
18 апреля 2005 г., Москва
ЧЕм ОТЛИЧАЕТСЯ мОСКОВСКИй УЧИТЕЛЬ ОТ ТУЛЬСКОГО?
ЗАРПЛАТОй, ВО ВСЯКОм СЛУЧАЕ
— Сергей Юрьевич, что у вас, экономистов, делается, почему не можете прийти к консенсусу относительно экономического развития страны? Почему инфляция растет быстро, доходы бюджета — медленно, а зарплата вовсе застыла у последней черты? В том смысле, что за ней — нищета, ибо черта та до прожиточного минимума недотягивает.
— А как можно договариваться в условиях диктата одной партии, одной фракции, когда проект бюджета принимается практически без обсуждения? Когда впервые за все годы бюджетного процесса думское большинство не учло ни одной поправки, которая была инициирована не с их стороны? Так что дискуссии у нас не получается.
— Согласитесь, что эта ситуация больше политическая, чем экономическая. С какой политикой мы тут имеем дело?
— С политикой рыночного фундаментализма, суть которой — отказ государства от ответственности за уровень жизни населения, состояние производственного и научного потенциала и социально-экономическое развитие страны. Эта политика последовательно реализуется в России уже 13 лет и сопровождается снижением участия государства в финансировании социальных расходов. Федеральная власть фактически отказалась от ответственности за народное образование, сбросив бремя финансирования школ в регионы и муниципалитеты. Эта же участь постигла и среднее профессиональное образование — единоросовское думское большинство таким образом закончило наш десятилетний спор с Минфином, и, вопреки здравому смыслу, бремя содержания учреждений среднего профессионального образования передано в регионы. Возможно, следующим шагом невежественной власти будет сбрасывание на региональный уровень уже высшего образования.
— Почему Минфин этого так упорно добивается?
— Потому что не понимает простой вещи: вся эконо мика, весь экономический рост базируется на научно-техни ческом прогрессе, а тот — на подготовке высокопрофессио нальных кадров. Еще с 60-х годов прошлого столетия наука, образование, техника, новое знание стали двигателем экономического прорыва всех развитых стран, на долю которого тогда приходилось примерно две трети прироста национального дохода. А сейчас если брать США, Европу и Японию, то вклад технического прогресса в прирост национального дохода составляет более 90%. Это привело к тому, что вложения в человеческий капитал с 60-х годов в этих странах стали превосходить вложения в машины и оборудование. Поэтому там растет вклад государства в развитие социальной сферы. Переложить эти расходы государству не на кого: для любой частной компании вложения в науку и образование — это всегда вопрос приватизации результатов ее инвестиций. Никто не хочет вкладывать деньги во что-либо, если нет гарантий прибыли. В общем, перевести систему образования на финансирование частных бизнесменов в мире не пытается никто, кроме России. Политика нашего правительства не соответствует общемировым тенденциям, тенденциям современного экономического роста, тянет страну в XIX в. Получение образования, а следовательно, и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики оказывается личным делом каждого гражданина, а вовсе не государства. Наше государство вообще перестает быть социальным.
— Но ведь нам говорят, и это кажется логичным, что отныне регионы сами будут самостоятельными в выборе приоритетов и целей, в финансировании того, что посчитают нужным. Это плохо?
— Большинство из них просто не в состоянии это делать, не имея необходимых источников финансирования. Дифференциация регионов по уровню бюджетных доходов на душу населения в среднем составляет 5—7 раз. К примеру, в Москве бюджетные возможности в расчете на одного жителя в 30 раз больше, чем на Северном Кавказе. Даже в 100 километрах от столицы возможности финансирования бюджетной сферы снижаются многократно. Так, зарплата учителя в Туле или в Рязани в 4—5 раз меньше, чем в Москве. В результате того, что ответственность за финансирование образования была сброшена в регионы, для подавляющего числа граждан обязатель ства государства по образованию будут выполнены не пол ностью или вовсе не выполнены. Что же тут хорошего? Ведь развивать образование, когда зарплата учителя ниже прожиточного минимума, практически невозможно.
— Министр финансов Алексей Кудрин говорит, что педагогам нельзя увеличивать зарплату, потому что в результате этого сразу сильно вырастет инфляция. Он прав?
— Отнюдь. То, что говорит Кудрин, — образец экономического невежества. Он ссылается на примитивное монетаристское тождество, которое дается в учебнике для первокурсников. Это тождество, согласно которому количество обращающихся на рынке товаров, умноженное на цены, должно равняться количеству денег в экономике, умноженных на скорость их обращения. В этом тождестве четыре переменных. Кудрин берет две из них, фиксирует объем товарной массы и скорость обращения денег. Исходя из оставшихся двух переменных, он получает другое тождество — цены пропорциональны денежной массе. Чем больше денежная масса, тем выше цены, и наоборот.
За такого рода упрощение реальности нельзя поставить даже тройку. В правильно организованной денежно-кредитной системе прирост денежного предложения направляется в расширение производства товаров. Благодаря действующему в экономике механизму конкуренции на рост денежного предложения предприятия реагируют расширением производства товаров, а не повышением цен, которое снизит их конкурентоспособность. Расширение денежного предложения увеличивает для предприятий возможность брать кредиты и производить больше товаров. Таким образом, прирост денег должен связываться с приростом товаров. При этом с ростом доходов населения возрастает и склонность людей к сбережениям, что приводит к замедлению обращения денег. То есть при условии, что прирост денежной массы связывается приростом производства товаров, повышение зарплаты будет сопровождаться не повышением, а снижением цен вследствие снижения скорости обращения денег. Такая ситуация наблюдается сейчас, например, в Китае, где на фоне сверхбыстрого роста денежной массы наблюдается снижение цен потому, что объем роста производства товаров превышает рост до ходов населения, направляемый на потребление. В результа те грамотной макроэкономической политики у них есть деньги, чтобы развивать и экономику, и социальную сферу. У нас вследствие невежества правительственных экономистов денег нет, в том числе на образование.
— Нет денег — да здравствует коммерциализация?
— К сожалению, на большее у правительственных чиновников ума не хватает. Мы знаем, что в Москве берут деньги при зачислении детей в школы и детские сады. Денег у образовательных учреждений не хватает, поэтому часть издержек на их содержание перекладывается на плечи родителей. Коммерциализация бюджетной сферы при низкой зарплате граждан сделает для многих из них услуги в образовании, медицине, культуре недоступными. Расслоение общества будет усугубляться.
Такая политика государства неизбежно приведет к деградации человеческого капитала, интеллектуальных и трудовых ресурсов России. Это означает, что страна теряет будущее, ибо какая политика, такое и образование, какое образование, такая и экономика, такое и развитие.
— Иногда возникает впечатление, что команда Путина его же и подставляет. Он логично излагает что-то, а потом все изворачивают так, что узнать невозможно.
— Да уж, примеры тому есть. Стоило Владимиру Владимировичу посетовать, что многие из выпускников вузов не идут работать по специальности, как, вместо того чтобы спрогнозировать выпуск нужных специалистов на десятилетие вперед, модернизировать систему образования в этом направлении, сделать так, чтобы выпускники шли туда, где нужны, решили сократить вузы и расходы бюджета на финансирование высшей школы.
Но следует отдать должное — Путин не скрывал планов коммерциализации социальной сферы перед президентскими выборами. Его убедительная победа на выборах придала ему уверенность в проведении социальной и административной реформы, жесткой бюджетной политики, легализации вывоза капитала за рубеж и в последовательном продолжении политики рыночного фундаментализма, противоречащей интересам подавляющего большинства проголосовав
ших за него граждан. Все, что он делает сегодня, было заяв лено еще до выборов. Так что, поддержав нынешнюю власть, граждане проголосовали против своих собственных интересов. Правительство последовательно реализует прежнюю ельцинско-гайдаровскую политику.
— Мы уже достигли критической точки в экономическом развитии?
— Уже не вернуть позиции в станкостроении, в сельскохозяйственном машиностроении, в машиностроении для легкой промышленности. Эти отрасли, как и многие другие, производившие средства производства, необратимо разрушены, и придется их создавать заново, если у нас будут средства для этого. Но есть и направления, где мы по-прежнему на передовом научно-техническом уровне, и этот потенциал можно легко активизировать и расширить объемы производства — это авиационная, ракетно-космическая, атомная промышленность, где мы занимаем лидирующие позиции в мире. Это лазерные технологии, микробиология.
— У нас есть Министерство экономического развития во главе с Германом Грефом, неужели ему нельзя напрямую задать вопрос, который бы поколебал его позиции?
— Это бесполезно. У него нет экономического образования, поэтому, как мне кажется, он не понимает, что делает. Один штрих: мы говорим, что нет денег на образование, зарплата учителя недостойна того вклада, который образование дает обществу. Но Грефу кажется, что у нас в стране избыток денег и поэтому нужна политика выжимания денег из страны, стимулирования вывоза капитала. Отсюда — идея стабилизационного фонда: поскольку денег слишком много, нужно их заморозить в этом фонде. Правительство сегодня аккумулирует в нем более 500 млрд. рублей (это намного больше, чем весь бюджет образования), их вкладывают в американские ценные бумаги, которые обесцениваются, и мы просто эти деньги теряем.
Такая абсурдная логика объясняется невежеством, сдобренным теорией рыночного фундаментализма: рынок все сам должен отрегулировать, а если растут цены, значит, денег слишком много. На самом деле цены растут потому, что правительство не ведет антимонопольную политику и не бо рется с криминализацией рынка, а монополисты произвольным образом взвинчивают цены. Мы переплачиваем в 2—5 раз по сравнению с реальной себестоимостью за бензин, хлеб, молоко, тепло и электроэнергию, мясные продукты. Но для Грефа это слишком сложно и хлопотно.
Абсурд: люди не могут свести концы с концами из-за заниженной оплаты труда, а правительство считает, что денег слишком много. Промышленность задыхается от отсутствия кредитов, ей не хватает денег на расширение производства, а правительство изымает деньги из экономики, Центральный банк их стерилизует, что ведет к завышению процентных ставок и препятствует притоку денег в производственную сферу, провоцируя инфляцию.
— А как быть с нехваткой кадров?
— Нехватка кадров становится серьезным ограничением для развития экономики. Уже сегодня это узкое место на многих выживших и конкурентоспособных предприятиях, которые со своей продукцией выходят на мировые рынки. Трудно найти слесаря, способного работать качественно на новой технике, делать технически сложные вещи даже за 700—800 долларов в месяц. Сбрасывание обязательств по финансированию учреждения среднего профессионального образования в регионы приведет к тому, что многие из них просто прекратят свое существование. Старение квалифицированных кадров не компенсируется притоком молодых специалистов. Вот тут мы и почувствуем, как трудно пойдет развитие страны и ее экономики.
— Справедливо ли то, что нефтяные магнаты получают сверхприбыль?
— Безусловно, нет. Нельзя и дальше терпеть того, что богатеет не тот, кто работает, а тот, кто волей случая был допущен к нефтегазовому источнику, к эксплуатации недр. Это наше общее богатство, и сверхприбыли от эксплуатации принадлежащих государству природных ресурсов должны направляться на нужды всего общества.
— На съезде «Единой России» звучала жесткая критика в адрес правительства. В декабре его отправят в отставку или сменят часть министров?
— Думаю, ни то ни другое не произойдет. Владимир Пу тин будет менять правительство тогда, когда определится с тем, как он будет удерживать власть в 2008 году. Раскрученный и опробованный на нем самом вариант с преемником, возможно, приведет к смене правительства, преемник может стать премьером, Стабилизационный фонд даст деньги и позволит решить некоторые социальные проблемы. Народ у нас обладает, к сожалению, короткой памятью, прибавка к пенсии или зарплате в несколько сотен рублей подтолкнет его к голосованию в пользу того, кто будет назван преемником.
— Вы рисуете довольно мрачные картины. Скажите, неужели в правительстве нет ни одного порядочного человека, который бы ратовал за образование, за улучшение положения интеллигенции, был, в конце концов, просто патриотом?
— Чтобы правительство было честным и некоррумпированным, оно должно, как и любая ветвь власти, находиться под надзором общества. Такого контроля у нас пока нет. Руководящие кадры сегодня назначаются по принципу личной преданности, а истина рождается в споре разных взглядов и позиций. Когда назначения идут не по принципу профессионализма, рождается круговая порука и коррупция, при которой возможности должности «выжимаются» с максимальной силой. Правительство теряет дееспособность, коррумпируется и мешает развитию страны.
— Сегодня нет крупной политической партии, которая бы не имела своей программы развития образования. Возможна ли консолидация политических сил на базе тех пунктов программ, которые у всех вызывают безусловное согласие?
— Уверен, что да. И готов сделать все от меня зависящее, чтобы такая консолидация состоялась. Общей основой для объединения всех конструктивных сил могла бы стать программа социальной справедливости и экономического роста, ключевые положения которой совпадают с программными требованиями Народно-патриотического союза «Родина», многими положениями программы КПРФ, политических организаций социалистической и демократической ориентации.
Опубликовано в «Учительской газете» 14 декабря 2004 г.
ЦЕНА НЕКОмПЕТЕНТНОСТИ
Какие потери несут Россия и ее граждане из-за некомпетентности руководства страны?
Через полгода после президентских выборов мы стали свидетелями грубых ошибок российского руководства, стоивших стране серьезных человеческих, экономических, материальных и моральных потерь. Судя по реализуемым сейчас социальной и политической реформам, а также решениям в сферах внешней и внутренней политики, эти потери будут еще больше. Их причина — некомпетентность руководителей, принимающих решения без учета закономерностей современного социально-экономического развития и возможностей роста народного благосостояния, экономической мощи и авторитета России. Главный критерий кадровой политики нынешней власти — принцип личной преданности — ведет к недееспособности, безответственности и коррумпированности власти, которая сосредотачивается в руках некомпетентных людей, принимающих ошибочные и вредные для страны решения — исходя из личной выгоды или ложных представлений.
Внутренние потери. Жертвы политики
Трагедия в Беслане и предшествующие ей взрывы самолетов стали очередным свидетельством неспособности федеральной власти обеспечить безопасность своих граждан, некомпетентности отвечающих за национальную безопасность чиновников. Совершение этих террористических актов сразу же после выборов президента Чечни доказывает иллюзорность достигнутого в ней урегулирования конфликтов и свидетельствует о неэффективности всей политики государства в этом регионе.
После четырех лет второй чеченской войны, унесшей тысячи жизней как в Чечне, так и в Москве, мы имеем те же нерешенные проблемы. Массовый исход чеченской молодежи в организованные преступные группировки, действующие на территории всей страны, профессионализация террористиче ской деятельности, в которую под руководством матерых бан дитов вовлекаются оставшиеся без родителей дети и подростки, стали реальными результатами этой войны. Ее главные вдохновители остаются недоступными для спецслужб, продолжая делать бизнес на крови, а ответственные за их нейтрализацию генералы и начальники лишь имитируют борьбу с терроризмом на кремлевском паркете.
С самого начала урегулирование чеченского кризиса велось неадекватными средствами, порождавшими все новые жертвы и усугублявшими этот кризис. Развязанная как элемент президентской избирательной кампании вторая чеченская война стала перманентной, подтолкнув целое поколение чеченской молодежи к решению пополнить ряды боевиков и организованных преступных группировок.
Для любого специалиста в области межэтнических отношений очевидна бесперспективность применения грубой силы в решении межнациональных конфликтов. Война, всегда сопровождающаяся большими жертвами среди мирного населения, многократно увеличивает количество вовлеченных в конфликт людей, облегчая сепаратистам вербовку новых боевиков из числа пострадавших. Нарастающее количество жертв порождает массовую мобилизацию охваченных чувством мести добровольцев, которые становятся на путь преступлений и уже едва ли вновь смогут стать законопослушными гражданами.
Вторая чеченская война закономерно стала перманентной — и приобрела террористические формы. Лагеря по подготовке террористов размещаются теперь не только в горах Чечни, но уже и в Ингушетии. Деятельность сотен преступных группировок с участием чеченских боевиков охватила все крупные российские города, налажены координация и сбор налогов для финансирования террористической деятельности. Проутюжив чеченские дороги по второму разу, российская бронетехника выдавила молодежь из сел в лагеря по подготовке террористов и в другие регионы страны — на преступный промысел.
К таким результатам наши службы национальной безопасности оказались не готовы. Коррупция в правоохранительных органах подорвала их дееспособность. Как показали расследования последних террористических актов, их испол нители за небольшие взятки проникали в самолеты, прохо дили блокпосты и пункты дорожно-патрульной службы — и даже использовали сотрудников милиции в качестве проводников и пособников. Бурный рост наркоторговли, проституции, игорного бизнеса в крупных российских городах, облюбованных этническими преступными группировками, подрабатывающими также финансовыми аферами и торговлей, генерируют широкий поток доходов для подготовки новых боевиков и коррумпирования должностных лиц.
Жертвами второй чеченской войны стали 4705 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. А число жертв среди мирного населения, по некоторым данным, достигло 40 тыс. человек. В результате террористических актов погибло около 2 тыс. человек.
«А что следовало делать после взрывов домов в Москве?» — спросит сторонник Путина.
Во-первых, спросить по всей строгости с тех руководителей, которые отвечают за нашу безопасность. Замечу, что никто из высших должностных лиц, отвечающих за безопасность страны, не понес никакой ответственности за явные провалы в деятельности спецслужб. Само совершение теракта — это уже провал, следствие отсутствия системы предупреждения преступлений против общества, включающей агентурную сеть, технологии сбора и анализа информации, элементарный контроль транспортных перевозок и т.п. Колоссальные жертвы, которыми сопровождались почти все последние теракты, не делают чести руководителям спецслужб, которые оказались неспособными к быстрому принятию решений, боялись взять на себя ответственность. До тех пор пока за теракты у нас будут раздавать ордена и медали отвечающим за безопасность страны «руководителям», вместо того, чтобы снимать их с должности, едва ли мы добьемся обеспечения безопасности граждан.
Во-вторых, прежде чем «мочить», следовало бы подумать, кто и в каких целях заинтересован в проведении терактов. Как учит история, любая война начинается с провокации, которую организовывают заинтересованные в ней силы. Очевидно, что сотни тысяч проживающих в Чечне граждан, пострадавших в ходе первой чеченской войны, не были заинтересованы в ее
возобновлении. Да и сепаратисты, питавшие в то время ил люзии по поводу Хасавюртовских соглашений, едва ли хоте ли новой войны. Но для политтехнологов маленькая победоносная война — не более чем техническое средство промывки мозгов избирателей в целях мобилизации общественного мнения для победы своего кандидата на выборах. Тысячи человеческих жертв воспринимаются ими как неизбежные издержки политического процесса, а о долгосрочных последствиях они не думают.
В-третьих, ни в коем случае нельзя превращать борьбу с террористами в войну с населением. Это лишь легитимизирует террористов в глазах последнего и расширяет их социальную базу.
Подчинение системы безопасности страны политическим интересам властвующей верхушки дорого обошлось нашему народу. Десятки тысяч убитых и искалеченных жизней, увеличивающийся размах деятельности организованных преступных группировок, рекрутируемых из числа охваченной чувством ненависти и мести чеченской молодежи, — слишком высокие издержки работы кремлевских политтехнологов.
Потери в экономике
Власть не пыталась изменить структуру распределения национального дохода, так же как и определяющую ее экономическую политику государства. Курс ельцинского правительства на самоустранение государства от регулирования экономики, на приватизацию государственного имущества, на отказ от решения задач развития экономики был последовательно продолжен. Были свернуты немногие остававшиеся механизмы стимулирования научно-технического прогресса и развития научно-производственного потенциала, в том числе отменены многие целевые программы, фактически свернуты банки развития и ликвидирован бюджет развития. Вместо этого огромные средства заморожены в Стабилизационном фонде, созданном для успокоения иностранных кредиторов; олигархам разрешили не только присваивать, но и легально вывозить десятки миллиардов долларов сверхприбылей от эксплуатации принадлежащих государству природных ресурсов. В руководстве страны укоренилась абсурдная мысль, что в экономике слишком много денег, которые следует стерили зовать, проще говоря, изымать из экономического оборота, перекачивая за рубеж.
На фоне острой нехватки кредитных ресурсов в производственной сфере, ликвидации сбережений граждан и крайне низких доходов подавляющего большинства семей правительственные чиновники лопочут об избытке денег и изымают из экономики сотни миллиардов рублей, обрекая на гибель целые вполне конкурентоспособные и перспективные отрасли. Вследствие отказа правительства от активного использования мер по стимулированию инвестиционной и инновационной активности, расширению кредитования производственной сферы, защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции уничтожены целые отрасли машиностроения, легкой, химической промышленности, агропромышленного и строительного комплексов. На грани выживания находятся авиационная и автомобильная промышленности, поставленные проводимой экономической политикой в худшие условия по сравнению с зарубежными конкурентами.
Недоступность кредитных ресурсов, систематические злоупотребления монополистов, завышающих цены на сырьевые товары и тарифы на транспортные и энергетические услуги, оторванность промышленности от научно-технических достижений, обусловленные проводимой правительством и Центробанком политики, обрекают большую часть российского производственного потенциала на деградацию и уничтожение. Миллионы людей, занятые в машиностроении, агропромышленном комплексе, строительстве, легкой промышленности не имеют сегодня достойного заработка и надежных перспектив.
Главные экономические решения нынешней власти свелись к отказу от политики развития экономики, к либерализации вывоза капитала, легализации доходов сомнительного происхождения и к правовому оформлению несправедливого распределения доходов при двукратно заниженной оплате труда, многократном завышении цен монополистами и присвоении большей части природной ренты небольшой группой олигархов и опекающих их чиновников. Были легализованы вывоз капитала, приватизация городских земель, резко снижены налоги на доходы, отказались от какой-либо реви зии итогов приватизации, урезаны права трудовых коллекти вов и профсоюзов по защите интересов наемных работников, а также оставлены сверхприбыли от эксплуатации государственных природных ресурсов приближенным и лояльным олигархам.
Экономическая политика правительства по-прежнему направляется интересами доминирующих в распределении доходов групп влияния и очень далека от оптимального варианта развития российской экономики. В оправдание этой политики конструируются мифы, пропагандируемые некомпетентными и малообразованными назначенцами. Один из этих мифов — об избытке денег в российской экономике — нами уже обсуждался. По своему смыслу он аналогичен рекомендации лечить дистрофию путем голодания на том основании, что ослабевший организм утратил способность переваривать пищу. Цель этого мифа — оправдать легализацию вывоза капитала, которая за путинскую пятилетку составила более 300 млрд. долларов. Это наиболее емкая оценка результата экономической политики нынешней власти. Не приходится сомневаться, что, если бы эти деньги оставались в стране, темпы экономического роста были бы существенно выше.
Любопытно заметить, что сегодня в состав главных экспортеров капитала наряду с олигархами вошло и государство. Не только Центральный банк, но и правительство занялось наращиванием резервов, размещаемых за рубежом. Причем в основном — в быстро обесценивающихся вследствие девальвации доллара американских бумагах. Только на этом наше государство потеряло уже свыше 25 млрд. долларов. К чему такое навязчивое стремление кредитовать США за счет российских налогоплательщиков — остается только гадать.
Чистый вклад правительства в экономический рост составляет, по нашим оценкам, минус 6%, в прирост инвестиций — минус 8% в год. Только замораживание изымаемых через налоги средств в Стабилизационном фонде обходится в 3% ВВП снижения конечного спроса. Не реализованные изза отсутствия должной кредитной и инвестиционной политики государства возможности организации производства и лизинга новых российских самолетов, сельскохозяйственной техники, жилищного строительства, освоения передовых технологий и наращивания выпуска наукоемкой продукции обходятся потерей еще не менее 3—5% ВВП. Политика Централь ного банка и правительства по сдерживанию денежного пред ложения, их неспособность организовать нормальную систему предоставления кредитов производственным предприятиям, предпринимаемые ими меры по стерилизации денежной массы и фактическому поощрению вывоза капитала сокращают более чем в два раза инвестиционные возможности российской экономики. Объем производственных инвестиций у нас вдвое ниже объема сбережений, львиная доля которых хранится в иностранной валюте и вымывается из России.
Сказанное выше не означает, что в экономике страны нет позитивных тенденций. Но, во-первых, они сильно преувеличены путем занижения инфляции и, тем самым, искусственного завышения темпов экономического роста. Во-вторых, они достигнуты не благодаря, а вопреки проводимой правительством политики, которая лишь тормозит экономический рост.
Совокупная плата за некомпетентность экономической политики путинского правительства и назначенного им руководства Центрального банка составляет более 5 трлн. рублей не произведенного за последние годы валового продукта.
Социальные потери
Последняя пятилетка ознаменовалась новым падением средней продолжительности жизни населения. Она снизилась еще на 1,5 года. В целом сокращение населения России с 2000 по 2004 год составило 4,6 млн. человек.
Разумеется, сокращение численности населения нельзя целиком списывать на проводимую сегодня политику; демографический кризис продолжается уже более десятилетия. Но исследования доказали, что его главная причина — затяжной психологический стресс населения, вызванный утратой жизненных ориентиров, сломом традиционных нравственных ценностей, резким снижением доходов и утратой жизненных перспектив. В конечном счете все эти причины порождены действиями власти в экономической, социальной, информационной и прочих сферах. Преодоление таких последствий некомпетентной государственной политики, как, например, чудовищное обнищание большей части населения, потребует немалого времени. Однако другие, например пропаганда насилия и разврата на контролируемых государством теле
каналах, могут быть устранены быстро. Но дело в том, что правительство просто не пытается ликвидировать причины демографического кризиса. Напротив, оно содействует углублению этого кризиса.
Вместо реальной борьбы с наркотизацией населения, служащей главной причиной эпидемии СПИДа и повышенной смертности среди молодежи, правительство на порядок увеличивает разрешенную дозу наркотиков, которую граждане могут держать при себе. Этот подарок наркомафии сопровождается преследованием сотрудников правоохранительных органов, всерьез взявшихся за борьбу с наркоторговцами, бросив вызов коррумпированному начальству.
Вместо того чтобы очистить электронные СМИ от льющегося на телезрителей потока насилия и разврата, правительство само финансирует изготовление такого рода продукции. Вместо принятия мер по оказанию помощи семьям с детьми, правительство снимает с себя обязательства по выплате детских пособий. Имея полтриллиона свободных денег в Стабилизационном фонде, государство не находит возможным изыскать средства для обустройства сотен тысяч беспризорных детей.
Вместо сохранения наиболее эффективных в мире систем всеобщего народного образования и бесплатной медицинской помощи населению, правительство вообще отказывается от каких-либо обязательств в этих сферах, сбрасывая их финансирование на регионы, у подавляющего большинства которых нет для этого средств. В условиях, когда бюджетные доходы на душу населения различаются в субъектах Федерации в 5—7 раз, происходит деградация системы образования и здравоохранения на большей территории страны.
Вместо обеспечения социальных гарантий в соответствии с конституционным определением Российского государства как социального, федеральная власть от них отказалась, заменив права граждан на получение жизненно необходимых благ частичными денежными компенсациями. Проведенная федеральной властью социальная реформа поставила под угрозу жизнь миллионов инвалидов и ветеранов, имевших права на бесплатные лекарства. Для многих из них частичных денежных компенсаций явно не хватит на приобретение жизненно важных лекарств, но правительство это не волнует.
А ведь можно было направить деятельность правительства на решение наиболее острых социальных проблем, благо денег у него сегодня достаточно. К примеру, 40 миллиардов рублей на обустройство беспризорных детей, выделяемых детским домам, церковным приютам, семьям с приемными детьми, хватило бы на полное решение вопиющей проблемы детской безнадзорности. Это спасло бы миллионы детских жизней, но правительство предпочло загнать эти деньги в американские ценные бумаги, в которых они быстро обесцениваются с девальвацией доллара.
Правительство распространило на социальную сферу принцип рыночного фундаментализма, реализованный в экономике еще правительством Ельцина. Вопреки закономерностям современного экономического роста, основанного на научно-техническом прогрессе и человеческом потенциале, правительственная политика направлена на подрыв этих главных факторов развития. В то время как все развитые страны переходят к экономике знаний, основанной на всеобщем высшем образовании и предоставлении каждому человеку возможностей для реализации своего творческого потенциала, наше государство фактически лишает своих граждан прав на современное образование, на охрану здоровья, на достойную оплату труда.
Свертывание социальных гарантий — это близорукая политика, которая ведет к деградации человеческого потенциала, качество которого составляет главный ресурс развития в экономике знаний XXI в. Отказ государства от политики стимулирования научно-технического прогресса и инновационной активности, финансирования науки и образования означает разрушение основных источников современного экономического роста. Платой за некомпетентность в этой области станут не только миллионы загубленных человеческих жизней, но и будущее всей страны, которая в отсутствие грамотного, духовно и физически здорового населения утратит возможности самостоятельного развития, опустившись на сырьевую периферию мирового рынка.
По данным социологических исследований, при сохранении нынешней социально-экономической политики лишь один из трех рождающихся сегодня детей получит хорошее образование, интересную и высокооплачиваемую работу. Две трети населения России обрекаются проводимой государством политикой на жалкую борьбу за выживание, на беспросветную бедность. Такова цена некомпетентности социальной политики нынешней власти.
Внешние потери
Некомпетентность во внутренней политике дополняется некомпетентностью в политике внешней, что проявляется во всех существенных вопросах, затрагивающих наши интересы. Цена такой некомпетентности бывает порой исключительно высока, а допускаемые ошибки — неисправимыми. Рассмотрим в качестве примера два ключевых внешнеполитических сюжета последнего времени: война в Ираке, борьба за власть на Украине.
С самого начала американской авантюры в Ираке российское руководство заняло противоречивую и непоследовательную позицию, вследствие чего не только не использовало очевидные возможности укрепления влияния России в мире, но и допустило серьезные потери. Выступив против планов американского вторжения в Ирак, российские руководители затем испугались испортить отношения с Дядей Сэмом и остановились на полпути. Российское руководство так и не решилось объявить США агрессором, что создало бы правовую основу для принятия реальных мер по предотвращению войны. Такие меры могли бы включать — согласно международному праву — замораживание американских активов, прекращение использования американской валюты, а также другие санкции, обычно применяемые в отношении агрессора на основании норм международного права. Нет сомнений, что к этой акции присоединилось бы значительное число государств, недовольных проводимой США политикой силы. Вашингтону пришлось бы выбирать между угрозой девальвации доллара и глубокого финансового кризиса, с одной стороны, и мирным решением иракского вопроса — с другой. Скорее всего, войны удалось бы в этом случае избежать, и Россия вернула бы себе авторитет мировой державы.
К сожалению, у российского руководства не хватило ни понимания судьбоносности момента, ни политического мужества всерьез противостоять американской агрессии. Более того, спустя некоторое время под давлением «друга Буша» российский президент согласился поучаствовать в финансировании американской авантюры, принимая решение о списании 80% иракского долга. Это означает, что Россия вносит в пользу поставленного американцами в оккупированном ими Багдаде марионеточного правительства 6 млрд. долларов. Ведь полностью зависимое от США правительство оккупированного ими Ирака будет вынуждено погашать американские военные расходы путем передачи американским же компаниям нефтяных месторождений, прав на импорт и транспортировку нефти, строительных подрядов, финансируемых за иракский счет. Так что списание иракского долга равноценно соучастию России в погашении американских военных расходов.
Таким образом, заняв внешне жесткую, но нерешительную позицию в вопросе об американской оккупации Ирака, российское руководство своими действиями не только подтвердило легитимность агрессии США, признав поставленное ими марионеточное правительство, но и стало ее соучастником, выделив на покрытие военных расходов и компенсацию произведенных американцами разрушений, огромную сумму. Тем самым России был нанесен, во-первых, немалый материальный ущерб. Ирак, обладающий колоссальными запасами легко извлекаемой нефти, — платежеспособная страна, прежнее руководство которой даже в условиях экономической блокады никогда не отказывалось от погашения долгов. Во-вторых, подорван международный престиж России, позицию которой американцы не только проигнорировали, но и заставили изменить. Российское руководство, идя на поводу у «друга Буша», фактически позволило высечь нас на виду у всего мира.
Между тем, даже упустив момент для объявления американского вторжения в Ирак агрессией, Россия могла бы многого добиться в своих интересах, сохраняя собственную позицию неизменной. Требование США поучаствовать в финансировании агрессии против Ирака и его последующего восстановления, продавливаемое ими через Парижский клуб кредиторов, давало нам возможность исправить весьма дорогостоящую ошибку, допущенную Ельциным с подачи Чубайса. Принятое без каких-либо обоснований и втайне от общественности решение о вступлении России в Парижский клуб кредиторов обошлось нашей стране в 60 млрд. долларов, предоставленных в свое время СССР развивающимся странам в виде военной техники, оборудования и других товаров. Обязательства перед Россией на эту сумму были списаны без сколько-нибудь существенных выгод для нашей страны. В ответ на навязчивые предложения США Парижскому клубу списать долги оккупированного Ирака российский президент мог бы вынести соглашение о вступлении России в Парижский клуб на ратификацию в парламент, который бы ее провалил, сделав это соглашение недействительным. Нам удалось бы тем самым не только сохранить иракский долг в полном объеме, не мешая другим государствам участвовать в финансировании американской авантюры в Ираке, но и устранить тяжелые последствия вступления в Парижский клуб.
Еще большими конфузом и потерями обернулась другая крупная внешнеполитическая инициатива Кремля, решившего поучаствовать в выборах украинского президента.
Придворные политтехнологи убедили Путина бросить весь авторитет и возможности России на поддержку украинского премьера Виктора Януковича. Политтехнологам, заработавшим немало миллионов долларов на обслуживании партии власти на думских и президентских выборах в России, захотелось поживиться и на Украине. Благо менять сценарий, методы и политтехнологии не требовалось. Привычный для кремлевских мастеров грязных избирательных технологий административный ресурс был у них в руках. Они надеялись «мочить» противника с позиции силы, запросив за свои услуги двойную цену — по политическому оформлению административного ресурса не только украинского правительства, но и российского президента.
Удивительно, что Путин, имея высокооплачиваемый штат советников, разведчиков, аналитиков, экономистов, культурологов и прочих «экспертов», стал жертвой интриги нескольких придворных политтехнологов, давно подвизающихся на ниве политических провокаций. Его просто использовали в чужой игре, разыгранной Кучмой в целях сохранения власти сложившейся вокруг него олигархической группы.
Политически Кучма добился своего. Во многом руками российского президента он расколол украинское общество и тем самым избежал появления нового общеукраинского лидера. За Ющенко голосовали сторонники украинского суверенитета, за Януковича — сторонники воссоединения с Россией.
Парадоксальным образом эти два кандидата стали олицетво рением двойственной политики самого Кучмы, который одновременно заигрывал с Западом и дружил с Москвой, ухитряясь сочетать невозможное: находясь в отношениях свободной торговли с Россией, запрашивать Евросоюз о присоединении к нему Украины. Испуганный угрозой раскола государства, украинский парламент в спешном порядке завершил инициированную Кучмой политическую реформу, отобрав властные полномочия президента в пользу Верховной рады.
Чего добилась Россия, сыграв в этом политическом спектакле чужую игру?
Во-первых, консолидации весьма разных и ранее склочничавших друг с другом политических организаций на антироссийской основе вокруг Ющенко. Именно грубое вмешательство Кремля превратило Ющенко из регионального националиста в политическую фигуру европейского масштаба, защитника демократии и суверенитета.
Во-вторых, резкого разворота Евросоюза к Украине, которой теперь, как ранее прибалтийским государствам, может быть предоставлена возможность вступления в ЕС по политическим мотивам.
В-третьих, резкого осложнения жизни всех открыто поддержавших Януковича руководителей, против которых националисты начали преследования сразу же после захвата власти. Давшие яркий всплеск пророссийские настроения и стремления миллионов жителей Украины жить в едином государстве с Россией могут быть растоптаны новой волной наносного украинского национализма.
Наконец, Россия попросту проиграла выборы и опозорилась причастностью к грязным избирательным технологиям и фальсификациям, признанным украинским Верховным судом. Ущерб от этого поражения огромный и долгосрочный. Напуганный российской навязчивостью украинский политический бомонд побежит, «задрав штаны», в Евросоюз. А последний, в целях противодействия России, задушит в еврообъятиях украинские деловые круги, резко расширив инвестиции в экономику Украины в политических целях.
Конечно, далеко не все потеряно. И хотя первый блин российского политического присутствия на Украине вышел комом, многое можно исправить последовательной и системной работой в новых политических условиях. Российско-ук раинская интеграция объективна, и никаким современным бандеровцам не удастся перечеркнуть столетия совместной истории. Но российскому руководству следует отказаться от принципа «сила есть, ума не надо», так как из-за отсутствия ума легко можно потерять и силу. Это случилось не только на Украине, но и в Абхазии, народ которой сам, без какоголибо давления извне принципиально проголосовал против навязываемого Кремлем кандидата, не побоявшись даже угроз экономической катастрофы. Еще больший конфуз может произойти на Дальнем Востоке, где односторонние территориальные уступки России воспринимаются соседями как слабость и провоцируют еще большие претензии.
Некомпетентность российского руководства слишком дорого обходится стране. Еще три года глупости и плутовства наша страна не выдержит. И уж точно не выдержит еще одного преемника у власти. Преемственность начавшейся при Ельцине политики разграбления страны властвующей элитой имеет объективный предел, за которым наступает необратимый процесс деградации экономики и распада общественного сознания, вымирание доведенного до отчаяния народа. За последнее десятилетие вследствие некомпетентности и коррумпированности власти мы уже понесли ущерб, сравнимый с потерями в результате гитлеровского нашествия.
Хватит, пора взяться за ум.
Опубликовано в «Литературной газете» 12 декабря 2004 г.
«КУДРЯВАЯ ЭКОНОмИКА»,
или Во что обходится невежество финансовой власти
Парадоксы проводимой в настоящее время в России денежной политики войдут, наверное, в экономическую историю как самые нелепые курьезы. Как, к примеру, объяснить здравомыслящему человеку сложившуюся в российской экономике ситуацию, при которой чем больше валютные поступления от экспорта нефти, тем меньше кредитных ресурсов остается в распоряжении российских предприятий. Чем боль ше приток иностранных инвестиций, тем меньше возможности внутренних накоплений. Чем больше профицит бюджета, тем выше государственный внутренний долг.
Перечень этих парадоксов, связанных с особенностями мышления г-на Кудрина, определяющего финансовую политику российского правительства, в котором он занимает пост министра финансов, и Центрального банка, где он руководит Национальным банковским советом, можно продолжить. Все их объединяет одно — маниакальная убежденность руководителя российских денежных властей в том, что наша экономика, благодаря притоку нефтедолларов, получает больше денег, чем она может эффективно использовать. Кажущийся ему избыток денег он выводит из экономического оборота, стерилизуя в Стабилизационном фонде около четверти налоговых доходов федерального бюджета. При этом он всерьез считает, что «потратить деньги Стабфонда на поддержку промышленности — значит нанести ущерб нашей промышленности. Это, к сожалению, пока освоили не все», — заявил Кудрин при рассмотрении проекта бюджета на 2007 г. в Государственной думе.
Да, столь «кудрявую» логику, действительно, освоить сложно. Тем более что ее приходится принимать на веру — никаких расчетов, моделей, каких-либо научно обоснованных аргументов в защиту своей позиции министр финансов не приводит. Словно пророк, получающий знания свыше, он заявляет: «Пока 27 процентов денежной массы от ВВП мы можем себе позволить и не больше, для того чтобы удерживать основные макроэкономические показатели».
И поясняет не понимающим его логику депутатам: «Средства Стабилизационного фонда выполняют главную функцию — спасают экономику от инфляции и укрепления рубля. В этом заключается эффективность Стабилизационного фонда. Если бы мы в прошлом году расходовали средства Стабилизационного фонда, мы имели бы прирост денежной массы на 70 процентов и инфляцию 20 процентов».
Исходя из каких моделей денежного обращения и на основании каких расчетов министр финансов делает столь однозначные выводы, остается загадкой. Нам предлагается ему просто… поверить. Поверил же президент, так почему бы не
поверить в пророческие способности г-на Кудрина депутатам и ученым? Тем более все равно решения об инвестировании денег российских налогоплательщиков в приобретение долговых обязательств стран НАТО (то есть в кредитование их военных расходов) уже приняты, президент России эту политику одобрил и ставить ее под сомнение — проявлять нелояльность главе государства.
И все же попытаемся разобраться в парадоксах «кудрявой экономики». Тем более что ее незамысловатая логика удивительно проста и понятна даже прикормленным властью журналистам без экономического образования. Она исходит из хорошо известного тождества монетарной теории, согласно которому произведение количества денег на скорость их обращения эквивалентно произведению объема обращающихся на рынке товаров на их цены. Эта простенькая формула является символом веры для исповедующих монетаризм вульгарных либералов. Вульгарных в том смысле, что они предельно упрощают экономическую реальность, исходя из предпосылок свободной конкуренции, абсолютной рациональности хозяйствующих субъектов, их полной информированности об имеющихся технологических возможностях и других, не существующих в действительности, но удобных для теоретизирования абстракций. Вульгарный либерализм российских монетаристов еще более примитивен — в указанном выше тождестве они видят только линейную зависимость между приростом цен (инфляцией) и приростом количества денег, считая скорость их обращения и объем товарной массы неизменными. Отсюда вытекает и логика проводимой ими политики количественного ограничения денежной массы в целях сдерживания инфляции. «Чтобы у нас в российской экономике инфляция была низкой, 3—4 процента, — втолковывает депутатам Кудрин, — нам нужно наращивать количество денег в экономике из года в год, даже несмотря на то, что ВВП будет на 6 процентов прирастать, а промышленность — на 5, нам нужно наращивать количество денег на 17—20 процентов, а мы наращиваем на 35—45. А вот если бы мы весь Стабфонд тратили, то мы бы наращивали 70 процентов» и, по мнению Кудрина, получили бы инфляцию в 20%, то есть вдвое выше нынешнего уровня.
Из этого рассуждения Кудрина можно выявить логику, которой он руководствуется: удвоение прироста количества денег ведет к удвоению прироста цен, и, соответственно, наоборот — двукратное сокращение прироста количества денег ведет к двукратному снижению прироста цен (с 10% сейчас до 5-процентного целевого ориентира денежной политики, ограничивающей прирост денежной массы 20%). Эта логика столь примитивна и столь далека от экономической реальности с ее нелинейными и сложными обратными связями и неопределенностями, что сам Кудрин пытается от нее откреститься.
На подозрения депутатов в своей излишней примитивности он отвечает: «Когда меня упрекают в том, что я говорю о том, что только количество денег в обращении сегодня является определяющим, безусловно, это не вполне справедливо, потому что всегда я обращаю внимание, что и сама формула, и методология этого связаны еще и со скоростью обращения». Но это не более чем отговорка оппонентам, которую Кудрин тут же дезавуирует: «Скорость обращения я мог бы выразить через такой показатель, как монетизация нашей экономики. Состояние нашей экономической системы таково, что мы себе можем позволить в 2005 году 27 процентов показателем денежной массы к ВВП. Это означает, что наша экономика имеет такой характер экономики и возможность аккумулировать средства, перераспределять, направлять их по эффективным каналам».
Хотя на словах Кудрин вынужден признать более сложный характер зависимости между денежной эмиссией и инфляцией, на практике он руководствуется примитивной линейной зависимостью между приростом денежной массы и темпом инфляции, задавая план стерилизации прироста денежной массы сверх установленного им же лимита в 18—20%. Из этого следует первый парадокс «кудрявой экономики»: чем больше валютной выручки приходит в Россию от экспорта нефти и газа, тем меньше денег остается для внутреннего производства.
Наряду с охарактеризованной выше логикой Кудрина, действие этого парадокса связано с механизмом денежной эмиссии, практикуемым Банком России в последние годы. Фактически единственным источником денежной эмиссии российских рублей в последние годы является приобретение Центробанком иностранной валюты в золотовалютные резервы. Это означает, что первичное распределение прироста денег в экономике происходит между продавцами иностранной валюты — экспортерами, заемщиками иностранных кредитов, иностранными инвесторами и, в последнее время, населением, избавляющимся от обесценивающихся ранее накопленных долларов. Их совокупный спрос на рубли намного превышает предложение последних со стороны импортеров, плательщиков по иностранным займам и населения, что выражается в высоком положительном сальдо платежного баланса. Оно целиком выкупается Центробанком в золотовалютные резервы за счет денежной эмиссии. Часть последней, превышающей установленные денежными властями ориентиры по приросту денежной массы, затем ими стерилизуется посредством изъятия налоговых доходов государства в Стабилизационный фонд и эмиссии государственных облигаций. Соответственно, происходит изъятие с внутреннего рынка денежных ресурсов, которые обслуживают производственную деятельность (через налоги) и инвестиции (через облигации правительства и Центробанка). Оценим масштаб этого перераспределения денег в текущем году.
Верхняя граница прироста денежной массы (агрегат М2) оценивалась Центральным банком в 28%. Денежная эмиссия под прирост валютных резервов в объеме около 100 млрд. долларов должна составить более 2,7 трлн. рублей, что было бы эквивалентно удвоению денежной базы. Реально ее прирост составит 796 млрд. рублей — остальная часть денежной эмиссии стерилизована путем вывода в Стабилизационный фонд 1,7 трлн. рублей налоговых поступлений, привлечения на депозиты и в облигации Банка России 229 млрд. рублей. Таким образом, денежные власти изымают за год с внутреннего рынка около 1,9 трлн. рублей, которые в противном случае были бы направлены на финансирование производства и инвестиций. При такой политике выходит, что чем больше валютной выручки приходит в Россию от экспорта нефти и газа, тем меньше денег остается для внутреннего производства.
По внутренней логике проводимой Кудриным политики получается, что чем больше Россия экспортирует нефти, тем
меньше денег остается для производства внутреннего продукта.
Цена этого парадокса исключительно велика. Неспособность денежных властей эффективно распорядиться обрушившимся на Россию потоком нефтедолларов стоит каждому гражданину России как минимум половины потенциальных доходов, оборачивается для предприятий завышенными процентными ставками и трудностями в получении кредита. На развитие банковской системы эта политика оказывает угнетающее воздействие, лишая ее большей части потенциальных ресурсов для расширения. Кудрин признает это обстоятельство: «Сегодня наш рынок, который хотел бы кредитовать реальный сектор, вынужден получать кредит под 10—15 процентов на три года. Вот весь и наш инвестиционный климат, он запирается вот в этих ключевых показателях… Наша задача, чтобы ставка была от пяти до семи и кредит был долгосрочным на период нормальной окупаемости любого крупного проекта. Для этого нужна низкая инфляция», — заключает он. И дальше вновь впадает в прочный круг собственных мифологем: «Количество денег в обращении может быть определенным». Определенным, по его мнению — не более 30% ВВП, которые, как он считает, способна переварить российская экономика. Следовательно, в условиях превышения денежной эмиссии по отношению к этой величине нужно не расширять предложение кредита, а, наоборот, изымать деньги из обращения, ухудшая финансовое положение налогоплательщиков, поступления от которых государство вывозит за рубеж. Любой психиатр определил бы такую логику как разновидность шизофрении.
По логике Кудрина получается, что для расширения доступа предприятий к денежным ресурсам предложение последних следует… сокращать. Причем сокращать резко — вдвое по отношению к фактически складывающемуся уровню, да еще за счет налоговых изъятий средств самих предприятий. Эта странная логика напоминает убежденность многих средневековых врачей в том, что кровопускание — универсальное средство от всех болезней. Действуя таким образом, они погубили немало несчастных больных. Российские власти своей политикой ежегодно губят множество российских предприятий, лишая занятости и источников доходов сотни тысяч людей. Они приносятся в жертву догмам г-на Кудрина. Несмотря на многочисленные критические выступления ученых и экспертов, эта политика продолжается, камуфлируемая «кудрявыми завитушками» в прессе по поводу инфляции, социальной направленности и стратегических прорывов в болезненном воображении правительственных экономистов.
Неудивительно, что почти все отрасли производственной сферы, ориентированные на внутренний рынок, остаются в депрессии и продолжают мучительно умирать — денежные власти делают все возможное, чтобы живительный поток кредитов до них не дошел. Как констатируется в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2006 год», в этом году «Россия остается донором — чистым кредитором остального мира». Российским государством будет перемещено за рубеж еще около 100 млрд. в дополнение к уже вывезенным из страны средствам в размере как минимум полтриллиона долларов.
Из миллионов граждан и предприятий, занимающихся хозяйственной деятельностью, лишь ничтожная часть имеет доступ к кредитам. Последние предоставляются под завышенные проценты и требования залогового обеспечения, на короткие сроки и на невыгодных условиях. Подавляющее большинство предприятий вынуждено развиваться только за счет собственных средств — доля банковского кредита в финансировании инвестиций крупных и средних предприятий составляет не более одной пятой.
Для малого бизнеса кредит остается вовсе недоступным. Неразвитость системы кредитования предпринимательской деятельности и практически полное отсутствие механизмов долгосрочного кредитования производственной сферы — прямое следствие заскорузлой политики финансовых властей, не выполняющих свою главную функцию в рыночной экономике по организации кредита.
Кудрин соглашается с этим, констатируя: «Монетизация нашей экономики очень низкая. Но, развивая институты, мы сможем расширить то количество проектов, которые можно будет кредитовать под 7 процентов годовых, и спрос на деньги появится». Пока же в российской экономике ставка кредитования составляет 15% при инфляции 10—11%. В прошлом году только 14 процентов кредитов было выдано на срок более трех лет», — отметил А. Кудрин. Выступая в Госдуме, он заявляет: «Нам нужно существенно увеличить инвестиционный потенциал российской экономики и сделать кредитный ресурс основным инструментом для модернизации экономики». Но тут же вновь скатывается в порочный круг своей мифологии, бесконечно блуждая в трех соснах (количества денег, уровня монетизации и темпа инфляции): «Причина инфляции — это избыточное денежное давление на экономику, связанное с большим притоком нефтедолларов и выкупом этих нефтедолларов в обмен на эмиссионные деньги Центральным банком. Защитой от инфляции и укрепления рубля сегодня служит Стабилизационный фонд России. Это он забирает лишние для экономики деньги. На сегодня объем Стабилизационного фонда составляет 6,4 процента ВВП, то есть он еще даже не достиг нижней планки, по нашим оценкам, той части, которая должна быть резервной».
Это уже точно шизофрения. Одновременно «больной» утверждает, что кредитных ресурсов в экономике не хватает, их дороговизна вдвое превышает нормальный уровень, и тут же принимает решение изъять половину их прироста. При этом в той мере, в которой Кудрин изымает деньги налогоплательщиков из российской экономики и вывозит их за рубеж, они направляются туда же, чтобы занять недостающие им денежные средства. Величина этого кругооборота составляет более 50 млрд. долларов в год. При этом правительство ссужает деньги российских налогоплательщиков зарубежным заемщикам под 2—3%, а они вынуждены там же занимать изъятые у них денежные ресурсы под 8—15% годовых. Чистый ущерб от этой шизофренической политики составляет около 5 млрд. долларов. Намного больше косвенный ущерб, включающий упущенные вклады банковской системы, теряющей наиболее платежеспособных клиентов, прибегающих к займам из зарубежных источников.
На этом примере мы видим второй парадокс «кудрявой экономики»: чем больше валютных поступлений получает экономика, тем больше капитала государство вывозит за рубеж. Масштаб этого парадоксального явления позволяет говорить об абсурдности проводимой в России денежной политики. На секунду представим, что Россия отказалась от Центрального банка и своей национальной валюты. Казалось бы, такое может привидеться только в кошмарном сне. Однако в этом случае денег у нас было бы вчетверо больше, инфляция — в три раза меньше, а кредиты стали бы вдвое дешевле и доступнее. Об этом говорит структура денежной программы на 2006 г. На 1 января 2006 г. на 2,299 трлн. находящихся в обращении рублей денежной базы Центральный банк аккумулировал 5,245 трлн. рублей чистых международных резервов. При этом чистые внутренние активы ЦБ составили -2946 млрд. руб. То есть денежные власти изъяли из экономического оборота в Стабилизационный фонд и долговые обязательства ЦБ более половины эмитированных денег. К концу этого года соотношение оставленных и изъятых из экономики денег составит 3095 млрд. рублей к -4869 млрд. при увеличении международных резервов до 7964 млрд. рублей. Иными словами, на один рубль, работающий в российской экономике, более двух рублей резервируется в иностранных активах. Таким образом, денежные власти искусственно сужают объем денежного предложения более чем вдвое даже по сравнению с самой консервативной моделью денежной политики, известной как «валютное правление» (когда страна жестко привязывает объем денежной базы к величине валютных резервов).
Более чем двукратное сокращение денежной базы по отношению к объему притекающих в страну доходов означает соответствующее ограничение возможностей экономического роста — кредитования производства, повышения инвестиций, роста занятости и доходов населения и обеспечения социальных гарантий.
За некомпетентность руководителей Центрального банка и экономического блока правительства мы вынуждены расплачиваться колоссальными упущенными возможностями. Привязка денежной эмиссии к приросту валютных резервов при количественном ограничении денежной массы влечет отток денег из бóльшей части производственной сферы, ориентированной на внутренний рынок, которая в отсутствие доступа к кредиту вынуждена изыскивать средства для развития за счет занижения оплаты труда. Чудовищный спад производства и хроническая депрессия в бóльшей части отраслей обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве — прямой результат проводимой денежно-кредитной политики. Об этом свидетельствуют конкретные примеры
многочисленных кризисных ситуаций, возникающих в эконо мике из-за искусственного ограничения ликвидности Центробанком и его неспособности организовать должную систему рефинансирования коммерческих банков, занимающихся кредитованием производства.
Фактически Банк России выполняет свою главную функцию с точностью до наоборот. Ведь смысл существования Центробанка заключается в монопольном осуществлении государством организации денежного обращения и денежной эмиссии в целях обеспечения благоприятных условий для экономического развития. В число этих условий помимо стабильной валюты входит наличие доступного кредита, механизмов аккумулирования сбережений и их трансформации в долгосрочные инвестиции, а также технологий устойчивого рефинансирования расширенного воспроизводства. Наш же Центробанк вместо предложения денег для кредитования экономического роста занимается их изъятием из экономики, тормозя и искусственно сдерживая тем самым экономический рост.
Такого еще не было в экономической истории — российская денежная власть ухитрилась превратить монополию государства на организацию денежного предложения из важнейшего двигателя экономического роста в его тормоз. Если во всех странах с рыночной экономикой ломают голову над вопросом, в каких пределах использовать денежную монополию государства для нужд общества, направляя ее на финансирование бюджетного дефицита, уровень которого в странах «семерки» в последние годы колеблется от 2 до 5% ВВП, то у нас все наоборот. Монополию государства на организацию денежного обращения используют для сокращения возможностей социально-экономического развития и снижения общественного благосостояния.
При такой политике даже свалившийся на нас дождь нефтедолларов, вместо того чтобы подпитывать российскую экономику, уходит мутным потоком за рубеж, а денежные власти, вместо того чтобы бороться с вывозом капитала, активно этому способствуют. В такой макроэкономике абсурда выжить могут лишь предприятия, экспортирующие свою продукцию и кредитующиеся за рубежом, не завися тем самым от национальных денежных властей.
Что ж, мы по-прежнему выступаем благодетелями для всей планеты. Причем если СССР критиковали за предоставление развивающимся странам социалистической ориентации 140 млрд. долларов кредита в виде поставок отечественной техники, то нынешняя власть ухитрилась за пятнадцать лет вывезти за рубеж свыше 600 млрд. долларов наличных денег, без какого-либо обеспечения прокредитовать полтриллиона долларов чужих военных расходов, списав заодно и большую часть выданных Советским Союзом кредитов. При такой политике не только увеличение доходов, но и наращивание экспорта оказывается для экономического роста бесполезным.
Второй парадокс «кудрявой экономики» является следствием неразвитости системы кредитования внутреннего производства, возможности которой ограничены жесткой политикой количественного ограничения денежного предложения. Поскольку денежные власти стараются не выходить за пределы ими же устанавливаемых количественных ограничений прироста денежной массы, который целиком направляется на приобретение иностранной валюты, рефинансирование коммерческих банков со стороны Центробанка фактически отсутствует. Более того, стерилизуя налоговые поступления и занимая деньги на финансовом рынке, денежные власти сужают даже имеющуюся базу воспроизводства кредитно-банковской системы. При этом само государство становится ведущим экспортером капитала.
Эту политику Кудрин объясняет необходимостью удержания относительно низкого, по сравнению с равновесным, курса рубля для поддержания конкурентоспособности отечественных экспортеров. Центробанк, скупая избыток валюты, образующийся при заданном обменном курсе рубля, выходит за пределы им же установленной допустимой величины прироста денежной массы. Чтобы остаться в рамках запланированных ограничений по приросту денежной массы, денежные власти стерилизуют избыточную часть путем изъятия части налоговых доходов государства, которая направляется в Стабилизационный фонд и вывозится затем за рубеж. При этом, как мы уже убедились выше, денежные власти устанавливают допустимые ограничения прироста денежной массы исходя из крайне упрощенной линейной зависимости между приростом количества денег и темпом инфляции, которая имеет мало общего с реальными закономерностями де нежного обращения.
Любая домохозяйка, регулярно покупающая продукты на продовольственных рынках крупного российского города по многократно завышенным ценам, хорошо видит главную причину этого завышения — монопольный контроль организованной преступности над товаропроводящей сетью. Любой крестьянин, желающий продать свой товар в городе, сталкивается с этой преступностью, вынуждающей его отдавать товар перекупщикам по дешевке. Любой автолюбитель понимает, что причина сезонного повышения цен на бензин заключается в злоупотреблении нефтяных картелей монопольным положением на рынке. Каждый квартиросъемщик, сталкиваясь с безудержным ростом коммунальных тарифов, понимает, что причина роста стоимости жизни заключается в попустительстве государства естественным монополиям. И только в абстрактном мышлении нашего министра финансов этим факторам инфляции не находится места — они не вписываются в его вульгаризированную версию монетарной теории. Он сводит ее к простой линейной зависимости между приростом количества денег и темпом инфляции. Поэтому в отличие от развитых стран, которые удерживают низкую инфляцию при дефицитных бюджетах, мы имеем высокую инфляцию при профицитном бюджете. И никакие жертвоприношения путем экономии на росте зарплаты, инвестиций и социальных расходов не помогают — монополисты и криминал, контролирующие рынки при попустительстве коррумпированного государства, продолжают завышать цены при любой макроэкономической политике.
Так возникает третий парадокс «кудрявой экономики»: чем больше денег стерилизуют денежные власти, тем труднее подавить инфляцию.
Мы уже сравнивали борьбу с инфляцией посредством количественного ограничения денежной массы со средневековой практикой лечения всех болезней кровопусканием. Сбить высокую температуру кровопусканием, разумеется, можно, доведя ее до комнатной и убив организм. Собственно, это и произошло со значительной частью нашей производственной сферы, погибшей из-за оттока денег в финансовые пирамиды и за рубеж. Выжили лишь высокомонополизированные про-
изводства товаров и услуг первой необходимости и экспорт но-ориентированные предприятия.
Первые благодаря тому, что за счет систематического завышения цен обеспечили необходимое для воспроизводства рефинансирование за счет потребителей. Вторые — благодаря устойчивому притоку валюты и привлечению иностранных кредитов. Вся остальная часть производственной сферы, ориентированная на внутренний рынок, все эти годы задыхается от хронической нехватки оборотных средств, не имея возможности самостоятельно рефинансировать свою деятельность из-за низкой рентабельности.
Банковская система призвана играть ключевую роль в структурных изменениях рыночной экономики, организуя и опосредуя приток капитала в освоение новых технологий, модернизацию и развитие производства. Но для этого должны работать механизмы рефинансирования коммерческих банков за счет соответствующим образом организованных механизмов денежного предложения. Используя свою монополию на эмиссию денег для кредитования экономического роста, государство бесконечно расширяет возможности социально-экономического развития.
Как известно, современный мировой экономический рост начался с промышленной революции в Европе, которая стала возможной благодаря организации долгосрочного дешевого кредита государством, создавшим механизм эмиссии национальной валюты. Экономическое чудо быстрого восстановления разрушенной войной стран Западной Европы стало возможным благодаря механизму рефинансирования коммерческих банков под векселя промышленных предприятий, которые переучитывались центральными банками этих государств. Столь же стремительный послевоенный подъем Японии был обеспечен дешевыми кредитными ресурсами, создававшимися государственной кредитно-финансовой системой. Сегодняшний бурный рост экономики Китая питается эмиссией кредитных ресурсов, предоставляемых под низкий процент на цели модернизации производственных предприятий также через государственные коммерческие банки.
К сожалению, весь этот колоссальный опыт успешного кредитования экономического роста остается не востребованным денежными властями России. Главным результатом их политики становится дефицит денежного предложения, при водящий к завышению процентных ставок, эмиссии денежных суррогатов, долларизации экономики и в результате — к росту трансакционных издержек, падению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, деградации и сокращению производства. Дополнительным результатом становится переход экспортно ориентированных предприятий к кредитному обслуживанию за рубежом. И без того небольшой объем операций отечественного банковского сектора сужается. Нет сомнений, что при такой политике в скором времени после открытия российского финансового рынка по условиям присоединения России к ВТО отечественный банковский сектор будет поглощен иностранными банками. В отличие от российских они имеют неограниченный доступ к источникам рефинансирования со стороны своих денежных властей. Таким образом возникает четвертый парадокс «кудрявой экономики»: чем больше валютные доходы российской экономики, тем меньше возможности развития отечественной банковской системы.
Поскольку Центробанк количественно ограничивает денежное предложение и не желает заниматься созданием должной системы рефинансирования коммерческих банков, рост последних жестко ограничен общим пределом роста денежной массы, устанавливаемым денежными властями. В результате коммерческие банки не могут удовлетворить растущий спрос на кредиты. Их наиболее благополучные клиенты, достигая уровня международной конкурентоспособности, переходят на кредитование за рубежом — в этом и прошлом годах наблюдается устойчивый и быстрый рост таких частных заимствований. При такой политике в России никогда не будет своей полноценной банковской системы.
Бурное развитие банковского сектора в России не должно вводить в заблуждение: масштаб его развития ничтожно мал как по сравнению с потребностями российской экономики, так и по отношению к стандартам развитых стран. Достаточно сказать, что активы всех российских коммерческих банков меньше, чем у одного крупного европейского, американского или японского банка, а отношение совокупного капитала банковского сектора к ВВП в России впятеро меньше, чем в других странах «восьмерки». Темпы его роста могли быть гораздо выше, если бы Центральный банк и правитель ство создавали для этого необходимые условия. Но в отличие от общепринятой в мире практики российский Центробанк изымает деньги из экономики, создавая их дефицит, а правительство, вместо того чтобы направлять деньги налогоплательщиков на цели социально-экономического развития страны, замораживает их в Стабилизационном фонде и вывозит за рубеж.
Стерилизационные операции денежных властей вызывают повышение процентных ставок и ухудшение доступности кредита. Удерживая ставку рефинансирования на уровне, существенно превышающем среднюю рентабельность производственной сферы, Центробанк блокирует развитие всей банковской системы, ограничивая спрос на деньги краткосрочными спекулятивными операциями и сверхприбыльными отраслями. В структуре источников финансирования капиталовложений российских предприятий доля банковских кредитов остается по сравнению с развитыми странами незначительной — 8—10%. Для сравнения: в США этот показатель составляет 40%, в ЕС — в среднем 42—45%, в Японии — 65%. По оценкам, 93% российских банков не могут выдать ни одного кредита объемом более 10 млн. долларов (исходя из норматива риска на одного заемщика).
Как уже говорилось, эти парадоксы являются следствием выбранной в свое время под давлением МВФ и реализуемой до сих пор политики количественного ограничения денежной массы, основанной на крайне примитивной концепции вульгарного монетаризма. Суть этой политики заключается в сочетании количественного ограничения денежного предложения некоторым умозрительным пределом (в интервале 20— 30% прироста денежной массы) и жесткой привязки денежной эмиссии к приобретению иностранной валюты. Пока сальдо платежного баланса было меньше субъективно определяемого предела прироста денежной массы, наши вульгарные монетаристы могли рассуждать о «денежной накачке» экономики с инфляционными последствиями. Но когда сейчас Банк России вынужден приобретать иностранной валюты значительно больше, чем установлено умозрительным пределом, эмитируя для этого соответствующее количество рублей, ущербность этой политики стала очевидной. На фоне крупномасштабной
стерилизации половины прироста денежной массы нехватка денег для производственной сферы стала еще более острой. При этом наряду с изъятием из экономики значительной части налоговых доходов бюджета денежные власти прибегают к ненужным государственным займам, изымая из экономического оборота свободные денежные ресурсы.
«Как раз когда мы находимся в ситуации избыточного денежного предложения, то мы вынуждены, чтобы сохранить достаточно высокие расходы, не увеличивать деньги в обращении, взять эти деньги в экономике, — поясняет депутатам эту абсурдную политику государственных займов при профицитном бюджете Кудрин. — То есть мы вынуждены заимствовать». При этом объем этих «вынужденных» (то есть ненужных) займов весьма велик. Следствием этой политики становится еще один парадокс «кудрявой экономики»: чем больше приток иностранных инвестиций, тем меньше возможности внутреннего финансирования инвестиций.
Ведь, согласно логике «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики», чем больше капитала вложат в приобретение акций российских предприятий иностранные инвесторы, тем больше будет прирост валютных резервов и денежная эмиссия под их увеличение и тем больше денег придется стерилизовывать денежным властям. Выходит, что приток иностранного спекулятивного капитала на финансовый рынок обернется оттоком денег из его инвестиционного сегмента. Собственно это и происходит через эмиссию государственных облигаций в целях стерилизации кажущейся Кудрину избыточной денежной массы.
Причины всех этих парадоксальных глупостей заключены в самой технологии планирования денежного предложения, навязанной нам МВФ и остающейся без изменения с 1992 г., несмотря на чудовищный ущерб от ее применения. Суть этой технологии сводится к ежегодному планированию прироста денежной массы исходя из целевых установок по ограничению инфляции и весьма туманных предположений об изменении скорости обращения денег. При этом никаких сколько-нибудь обоснованных моделей, позволяющих рассчитать зависимость между приростом денежной массы и уровнем инфляции, ни у Центрального банка, ни у правительства нет. Используемые же аналитиками денежных властей простенькие регрессионные зависимости не имеют содержательного смысла — как показали многочисленные исследования, статистически значимая зависимость между приростом денег и инфляцией отсутствует. Это неудивительно с учетом огромного количества нелинейных обратных связей и процессов, опосредующих взаимосвязь количества денег, скорости их обращения, объема товаров и цен. Сведение всех факторов, генерирующих инфляцию, к приросту денежной массы — грубейшее упрощение, простительное первокурснику, но приводящее к чудовищным просчетам при попытках руководствоваться им на практике.
Наивные попытки аналитиков денежных властей по-школярски подменить учет сложных нелинейных и весьма неустойчивых взаимосвязей между инфляцией и параметрами денежного предложения линейными детерминированными моделями у специалистов вызывают недоумение. Это все равно что пытаться рассчитать параметры полета ракеты при помощи калькулятора и формул земного притяжения из школьного учебника по физике. Когда вместо понимания внутренних связей объекта управления он моделируется как «черный ящик», трудно надеяться на успешное достижение поставленных целей. Но почему-то, несмотря на неограниченные возможности финансирования исследований, руководители Центрального банка не желают изучить должным образом закономерности функционирования доверенного им объекта управления, предпочитая рассматривать денежно-кредитную систему страны как «черный ящик», систематически ошибаясь в планировании денежной политики вследствие недопустимых упрощений и примитивности применяемых моделей.
Эти просчеты дорого обошлись нашей экономике. Почти десятилетие назад они были мною проанализированы в статье «Центральный банк против промышленности России»[1]. В ней было показано, что катастрофическое падение промышленного производства в 1993—1994 гг. (вдвое в целом и втрое в машиностроении) стало прямым следствием примитивной политики Центрального банка, пытавшегося бороться с галопирующей инфляцией путем количественного планирования прироста денежной массы и фиксации курса рубля. Следствием этого стал кризис неплатежей (денежные суррогаты вытеснили деньги, что повлекло резкое увеличение скорости их обращения и лишь увеличило инфляцию) и падение конкурентоспособности российских товаров (втрое за один год).
После финансового краха в августе 1998 года правительству Примакова удалось убедить Центральный банк отказаться от примитивных и крайне разрушительных для экономики методов планирования денежной массы. Вопреки кликушеству вульгарных монетаристов, требовавших резкого сокращения денежного предложения, и многократного повышения ставки рефинансирования, его объем был существенно увеличен при неизменной ставке рефинансирования, что позволило организовать рефинансирование коммерческих банков и увеличить кредитование производственной сферы, задыхавшейся от недостатка оборотных средств. В результате значительный прирост денежной массы не только не подстегнул инфляцию, но, напротив, способствовал ее снижению благодаря бурному росту производства товаров (на 25% за полгода), связавшему денежное предложение.
Сегодня Центральный банк декларирует взвешенную политику, признавая, что «выбранный режим валютного курса, сохранение существенной роли регулируемых цен в динамике индекса потребительских цен, неустойчивые процессы замещения валют в портфелях активов, неустойчивые лаги между динамикой денежного предложения и показателями инфляции определяют низкую эффективность использования в качестве промежуточного целевого ориентира темпов прироста денежной массы. Динамика денежных агрегатов становится лишь ориентиром и важной характеристикой текущих монетарных условий и среднесрочного тренда инфляции, а прогнозные границы прироста денежной массы не являются жестко заданными».
Но по сути технология планирования денежного предложения остается прежней. На основе субъективных ощущений и необоснованных предпосылок руководители денежных властей «с потолка» задают границы прироста денежной массы, после чего производятся расчеты требуемого объема стерилизации «избыточной» (то есть выходящей за пределы этих границ) части денежной массы в зависимости от ожидаемого сальдо платежного баланса. Весь объем денежной эмиссии сверх установленных пределов прироста денежной массы объявляется лишним и подлежащим стерилизации путем замораживания денег, изымаемых из экономики в форме налогов, в Стабилизационном фонде. В дополнение к этому Центральный банк оставляет за собой право изъятия денег у коммерческих банков под свои обязательства.
Хотя Центральный банк признает, что главными причинами инфляции в настоящее время являются не монетарные факторы, а рост регулируемых тарифов и злоупотребления монополистов, борьба с инфляцией по-прежнему сводится к количественному ограничению прироста денежной массы. Это ведет к хронической недомонетизации российской экономики и соответствующему ограничению экономического роста. В условиях, когда главным источником инфляции является завышение цен монополистами, такая денежная политика ведет к снижению возможностей экономического роста и роста доходов населения, сводясь к обслуживанию перетока доходов к монополизированным и экспортно ориентированным отраслям. При этом ее антиинфляционная эффективность остается весьма низкой, так как ограничение роста доходов населения и расходов государства никак не влияет на возможности монополистов завышать цены.
Монополисты это делают вне зависимости от ограничений прироста денежной массы при попустительстве государства, уклоняющегося от проведения действенной антимонопольной политики. Не только тарифы на услуги естественных монополий, но и цены на товары массового спроса завышены в несколько раз вследствие криминализации рынка и отсутствия добросовестной конкуренции. Странно слышать рассуждения правительственных экономистов о недопустимости прироста реальной зарплаты более чем на 10% в ситуации, когда цены на продовольственном рынке завышены втрое по отношению к равновесным в условиях свободной конкуренции. Они могут стать еще выше даже при снижении зарплаты, если государство продолжит попустительствовать злоупотреблениям монополистов. Вместо того чтобы проводить жесткую антимонопольную политику, государство ограничивает прирост денег в экономике, сокращая конечный спрос и сужая возможности роста производства. В результате закрепляется депрессивное положение и деградация отраслей, ориентированных на внутренний рынок, десятки миллионов людей теряют возможности увеличения доходов, становится хронической массовая бедность.
Иными словами, из-за того, что некто произвольно установил верхний предел прироста денежной базы, приток в страну нефтедолларов сверх этого уровня оборачивается сокращением государственных расходов, и миллионы работников бюджетной сферы недополучают зарплату, граждане России лишаются социальных гарантий, и у государства не находится достаточно денег, чтобы обустроить беспризорных детей. Некомпетентность денежных властей, примитивизм проводимой ими политики дорого обходится нашему народу. Вследствие искусственной привязки рубля к доллару, денежного предложения — к приросту валютных резервов, жесткого количественного ограничения прироста денежной массы произвольно задаваемыми параметрами все не ориентированные на экспорт отрасли посажены на «финансовую мель». У них нет возможности долгосрочных заимствований, крайне ограничен доступ к кредитным ресурсам, отсутствуют механизмы рефинансирования производственной деятельности.
В результате проводимой денежно-кредитной политики мы лишились значительной части производственного и инвестиционного потенциала, вывоз капитала превысил полтриллиона долларов, произошла деградация экономической структуры страны с закреплением доминирующего положения сырьевых и монополизированных отраслей. Мы могли бы иметь сегодня вдвое больший объем ВВП и втрое больший объем инвестиций, гораздо более прогрессивную структуру экономики, если бы политика Центрального банка соответствовала ее главной цели — использованию монополии государства на денежное предложение для кредитования экономического роста.
Кроме огромного ущерба для социально-экономического развития страны от макроэкономических последствий проводимой денежными властями политики, эти же власти наносят
государству прямой ущерб бездарным управлением валютными резервами страны. Около пяти лет назад комитетом Государственной думы по экономической политике были проведены специальные парламентские слушания с целью объяснить денежным властям чрезмерную рискованность размещения валютных резервов в долларах США. Но наивная вера руководителей Центробанка в незыблемость последних оказалась важнее оценок ученых. За эту некомпетентность (или ангажированность?) денежных властей мы поплатились потерей валютных резервов страны более чем на 25 млрд. долларов вследствие обесценения этой валюты в точном соответствии с прогнозом парламентских слушаний. Теперь, когда доллар растет и падает евро, Центробанк скупает последние, наступая в очередной раз на те же грабли. Может быть, руководство денежных властей ставит перед собой задачу максимизации ущерба государственным финансам?
Во всяком случае, замораживание государственных денег в стабилизационном фонде на счетах Центробанка есть прямое нанесение ущерба государству в размере их инфляционного обесценения. Хотя, возможно, риск размещения этих денег за рубежом окажется еще выше, с учетом опыта Центрального банка по манипулированию государственными резервами. Свежа еще в памяти история с фирмой «Фимако», созданной руководством Центробанка на Кипре с целью прокрутки резервных денег в финансовой пирамиде ГКО в интересах собственного обогащения. Кто знает, не будут ли подобные технологии финансовых махинаций задействованы вновь — политика размещения валютных резервов и стабилизационного фонда остается тайной.
Примитивизм проводимой денежной политики во многом объясняется закрытостью Центрального банка и безответственностью его руководства. Центральный банк не обосновывает принимаемые им решения и не считает должным объяснять их ни обществу, ни специалистам. Отсутствие механизмов ответственности Центрального банка за принимаемые решения оборачивается примитивизацией проводимой им политики, недостоверностью целевых показателей денежной политики и систематическим занижением возможностей денежного предложения. Судя по содержанию «Основных направлений», Центральный банк до сих пор не имеет скольконибудь достоверной системы моделирования различных вариантов денежно-кредитной политики, сводя их лишь к сценарным прогнозам платежного баланса при разных ценах на нефть. Главный вопрос планирования денежной политики — оценка спроса на деньги при различных сценариях экономического роста — даже не ставится.
Вместо расчетов, характеризующих взаимосвязь экономического роста и различных вариантов политики денежного предложения, механизмами рефинансирования банковской системы и производственной деятельности, Центральный банк руководствуется субъективными и туманными оценками параметров денежного обращения, планируя их по инерции от «достигнутого уровня». При этом руководство Центробанка старается многократно перестраховаться, искусственно сдерживая денежное предложение из-за боязни инфляции. А правительство и думское большинство, принимая «Основные направления» на веру, пассивно соглашается с необоснованным ограничением возможностей экономического роста и повышения доходов населения.
Странно видеть пустой зал и равнодушие депутатов Государственной думы при обсуждении «Основных направлений», которые определяют макроэкономические ограничения экономического роста, доходов населения и государственных расходов. Распределение последних является предметом бурных дебатов в ходе четырех чтений проекта федерального бюджета, а их общая величина принимается к сведению без каких-либо обсуждений. Трудно объяснить, почему депутаты Государственной думы часами спорят о том, как распределить десяток миллиардов рублей по целевым программам, и просто принимают к сведению решение денежных властей изъять из бюджета и заморозить в Стабилизационном фонде более 2 трлн. рублей, 200 млрд. из которых съест инфляция в течение года. При этом никаких расчетов, обосновывающих необходимость замораживания именно 2,2 трлн. рублей, не приводится. Их и не может быть в силу отмеченного выше отсутствия прямой статистически значимой зависимости между приростом количества денег в обращении и инфляцией.
Идиотизм принимаемого решения о двукратном занижении зарплаты работникам бюджетной сферы на том основании, что так считают ни за что не отвечающие «эксперты» Центрального банка и Минфина, очевиден для специалистов. Сколько можно приносить доходы миллионов российских граждан и предприятий в жертву невежеству денежных властей?
После финансовой катастрофы августа 1998 г., произошедшей вследствие некомпетентности тогдашних денежных властей, было принято решение о создании Национального банковского совета, призванного хоть как-то контролировать руководство Центрального банка, оценивая обоснованность принимаемых им мер. К сожалению, за несколько лет своей работы этот орган никак себя не проявил. То ли в силу робости, то ли из-за некомпетентности входящих в него лиц, он функционирует как декоративный орган, подобно думскому большинству принимая к сведению гадания экспертов Центробанка.
Сколько мы еще будем мириться с тем, что из-за субъективного и некомпетентного мнения отдельных чиновников, направляющих деятельность денежных властей, страна теряет половину возможностей экономического роста, а гражданам вдвое занижается зарплата? Времени для оздоровления денежно-кредитной системы страны остается все меньше. С исчерпанием потока нефтедолларов исчезнут и возможности быстрого наращивания финансовых возможностей экономического роста. С деградацией задыхающегося от нехватки денег ориентированного на внутренний рынок производственного потенциала страна лишится собственной технологической базы и способности к самостоятельному развитию. С присоединением России к ВТО иностранные банки быстро займут доминирующее положение на рынке капитала, лишив нас собственной финансовой основы. Это произойдет на наших глазах в течение нескольких лет, если мы не заставим Центральный банк должным образом выполнять свои функции по эффективному управлению государственной монополией на денежное предложение в целях обеспечения благоприятных условий экономического роста. Может быть, в этом и есть тайный смысл политики российских денежных властей? Чем сегодня можно еще объяснить маниакальное стремление к наращиванию инвестиций в обесценивающиеся американские финансовые инструменты, как не стремлением поддержать падающий доллар всеми финансовыми ресурсами нашей страны?
Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить научную обоснованность денежной политики, что невозможно без кардинального повышения квалификации и ответственности руководства денежных властей. В этом направлении должен, наконец, заработать и Национальный банковский совет, занявшись решением насущных проблем.
Во-первых, отказаться от примитивной политики количественного ограничения денежного предложения, перейдя к его регулированию через ставку рефинансирования, последовательно снижая ее до уровня, не превышающего среднюю норму рентабельности в производственной сфере.
Во-вторых, вместо безумной политики выталкивания денег из страны приступить к формированию механизмов долгосрочного дешевого кредита, преобразовав для этого Стабилизационный фонд в Бюджет развития и создав полноценные кредитные институты развития.
В-третьих, вместо доведенной до абсурда политики эмиссии денег под прирост валютных резервов перейти к гибкому денежному предложению, исходя из необходимости удовлетворения спроса на деньги со стороны производственной сферы и используя для этого механизм рефинансирования коммерческих банков под залог векселей платежеспособных производственных предприятий.
В-четвертых, прекратить операции по изъятию с рынка денег, генерируемых производственной сферой с рынка, включая их замораживание в Стабфонде, эмиссию облигаций Банка России и перекачку денег за рубеж.
В-пятых, принять меры по защите отечественной банковской системы от поглощения международными банками, ограничив присутствие последних на российском рынке разумными пределами.
И, наконец, следует вновь вернуться к рассмотрению функциональных обязанностей Центрального банка, законодательно дополнив их задачами организации кредита в экономике, содействия занятости и экономического роста.
Опубликовано в «Политическом журнале», (2006, № 43—44, 47—48)
ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ НАЧАЛСЯ С НАЗНАЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРОВ
Придуманная Кремлем политическая реформа проводится якобы для укрепления государства и национальной безопасности. При этом идет масштабная агитация в пользу ее скорейшего принятия. Также в дело идут и провокации — противников реформы называют врагами государства и пособниками террористов. Представители администрации президента объявили о наличии в стране «пятой колонны» врагов Отечества, в состав которой, очевидно, будут заноситься все неугодные их шефу политические и общественные деятели с целью их последующей зачистки.
Туркменбаши на российский лад
Не так давно в вагонах московского метро появились смонтированные наклейки-листовки клеветнического содержания со сфабрикованными чернушниками фотографиями. На них изображены оставшиеся самостоятельными лидеры оппозиции вместе с наиболее одиозным чеченским террористом и олигархом. Мол, вот они — враги народа. Я считаю, что это выходка может оказаться прелюдией к репрессиям против неугодных власти политикам. Как свидетельствует журналистское расследование газеты «Московский комсомолец», расклеила листовки организация «Идущие вместе», клонированная Кремлем для грязных провокаций.
Судя по этим приемам, президентский агитпроп намерен использовать модели политического террора 30-х годов с разоблачением и последующим уничтожением «врагов народа». Возможно, в современных условиях он будет не столь масштабным, число жертв не выйдет за пределы пиночетовской диктатуры, в стране появится нечто вроде российского Туркменбаши. В любом случае этот рецидив политтехнологии прошлого века губителен для страны.
Как горбачевская антиалкогольная кампания была доведена ретивыми исполнителями до вырубки виноградников,
так и проводимая в настоящее время политическая реформа может быть реализована какими-нибудь «Идущими вместе с вождем» по образцам гитлеровских штурмовиков или китайских хунвейбинов.
Проводимые властью реформы обозначили пока лишь общий вектор изменения социально-политической структуры общества. Но их осуществление задает тенденцию, которая может привести к формированию криминально-олигархической диктатуры. А может и заглохнуть — в зависимости от силы общественного сопротивления. Поэтому столь важно сейчас, пока авторитарно-репрессивный режим власти окончательно не сформировался, ясно осознать его угрозу.
В политику — по пропуску
Как известно, суть политической реформы сводится к ликвидации права граждан на прямое избрание глав субъектов Федерации и своих представителей в Государственную думу. Кандидатуру в губернаторы будет предлагать президент, а депутаты Государственной думы станут избираться по партийным спискам.
Сегодня доступ к СМИ жестко регулируется президентской администрацией. Не трудно догадаться, что все партии, претендующие на доступ к избирателям и прохождение в Думу, должны будут договариваться с администрацией президента, доказывать свою лояльность, чтобы получить разрешение на выход в телеэфир. А законодательные собрания в регионах едва ли решатся отклонить предлагаемую президентом кандидатуру в губернаторы. В случае несогласия с ним их просто распустят. По сути, нам навязывают режим личной диктатуры одного человека, который будет произвольно назначать всех облеченных сколько-нибудь существенной властью руководителей. Противоречит это действующей Конституции или нет, разберется Конституционный суд. Для нас важен смысл навязываемых стране изменений. Реставрация методов прямого административного принуждения граждан и силового подавления их воли приведет к окончательной деградации общества, ликвидации главных источников совре менного экономического роста.
Власть для…
Укрепление вертикали власти — не более чем красивая фраза, имеющая совершенно разный смысл в разных политических ситуациях. Главные вопросы: каким образом эта вертикаль выстраивается и для каких целей власть «вертикально укрепляется»?
В нашей новой истории уже был период, когда руководители регионов назначались президентом. Это был период распада СССР и всей социалистической системы управления огромной страной. Захватившим власть революционерам срочно нужны были лояльные руководители в областях. Прикрываясь теми же лозунгами, что и сегодняшние политреформаторы, они сместили большую часть действующих глав регионов, назначенных еще КПСС, и поставили на их место спешно подобранных руководителей. Многие из них не имели ни опыта управления, ни необходимой для этого квалификации. Впрочем, от них многого и не требовалось: не допустить реставрации советско-партийной системы, строго выполнять указания Ельцина, обеспечивать «правильный» ход народного голосования на выборах в федеральные органы власти.
Предоставленные самим себе, многие новоявленные главы регионов быстро проворовались, забыв об ответственности перед обществом. Чтобы не потерять кресло, они периодически заваливали президентскую администрацию подарками, задабривали федеральных чиновников взятками. Только после перехода к всенародным губернаторским выборам населению удалось избавиться от наиболее одиозных фигур — коррумпированных, глупых и наглых.
Сегодня нам предлагают вернуться к этой системе, являющейся явным анахронизмом в условиях XXI в. Неужели в Кремле полагают, что они могут лучше оценить эффективность работы глав регионов, чем население? Как президент будет оценивать работу губернаторов? Пока нам известен только один критерий, по которому с лидеров регионов спрашивают по всей строгости. Это результат выборов президента и депутатов Государственной думы. Если он соответствуют спускаемым из Кремля показателям, то все остальное может сойти с рук. Если нет — следует ждать неприятностей от пра воохранительных органов.
Кадровики решают все
Власть сильна своей связью с народом. Чем больше она выражает национальные интересы, тем прочнее ее позиции. Чем больше она открыта для него, тем больше к ней доверия. Чем больше она подотчетна народу, тем эффективнее ее политика. Такой власти нечего опасаться народного волеизъявления. И наоборот, коррумпированная, некомпетентная и противостоящая интересам страны власть боится выборов, гласности, любых форм народного контроля. Она предпочитает опираться на силу и подавляет оппозицию. Очевидно, что замена прямых выборов губернаторов утверждением представляемых президентом кандидатур отдаляет власть от народа. Контроль избирателями заменяется бюрократическим контролем президентской администрацией. У губернаторов исчезает ответственность перед гражданами. А ответственность перед президентом сводится к безусловной политической лояльности. Это делает губернаторов заложниками кремлевских интриг. Ведь у президента не 89 голов, чтобы с утра до ночи думать о каждом субъекте Федерации. За него это будут делать кремлевские кадровики, подбирая и оценивая людей по собственному усмотрению.
Сегодня вдруг заговорили, что прямые выборы губернаторов не обходятся без грязных технологий и подтасовок результатов. Это действительно так, особенно в отношении президентских выборов, что накладывает серьезный негативный отпечаток на результаты всенародного волеизъявления.
И тем не менее население — более объективный судья работы губернатора, чем оторванные от реальной жизни кремлевские царедворцы. Последних больше волнует вопрос, какие бизнес-структуры могут поделиться заработком в том или ином регионе, а не то, как там живут простые граждане. Поэтому, при всех недостатках избирательных технологий, население эффективнее контролирует работу губернаторов.
Кстати, заметим, что наиболее одиозные лидеры регионов, на которых в качестве негативного примера ссылаются сегодня сторонники политической реформы, пришли к вла сти благодаря прямой поддержке Кремля.
Наш собственный, да и мировой политический опыт сви детельствует, что выборы губернаторов населением эффективнее административных назначений сверху, так как лучше страхуют государственную власть от коррупционеров и некомпетентных руководителей. Проводимая Кремлем кадровая политика наглядно показывает неэффективность назначений по принципу личной преданности. Неужели кто-либо из наших граждан думает, что Греф, не имеющий даже экономического образования, — лучший из возможных министров экономики? Или Кудрин, который свел бюджетную политику к обслуживанию внешнего долга, — лучший финансист? Или Зурабов, коммерциализировавший государственное финансирование здравоохранения, — высококлассный специалист в этой области? А если мы еще вспомним тех, кого Путин назначил ответственными за состояние национальной безопасности? Сегодня граждане не знают, вернутся ли живыми домой. А в правительстве — ни одной отставки.
Назначенцы от сепаратизма не спасут
В качестве важнейшего аргумента в пользу политической реформы говорится о якобы свойственном избираемым губернаторам сепаратизме — стремлении отделиться. В пример приводятся отмененные недавно договоры федерального центра и субъектов Федерации о разграничении полномочий, а также тысячи существовавших ранее расхождений между федеральным и региональным законодательствами.
Действительно, сепаратистские тенденции имели место, и их подавление — несомненная заслуга нынешней власти. Однако это доказывает обратное: как только федеральная власть стала всерьез бороться с региональным сепаратизмом, он развеялся, как утренний туман. Порожден же он был самой федеральной властью, панически боявшейся региональных баронов на заре формирования новой российской государственности. Ельцину, исполнившему роль главного разрушителя СССР, мерещилось повторение этого кошмара уже против самого себя.
Целостность и национальная безопасность страны удерживается не административным произволом, а единством правового, экономического и, самое главное, человеческого пространства. Никакими назначениями начальников «свер ху» эти скрепы не заменить. Напомню, что парад суверенитетов развернули именно назначенные в свое время губернаторы. И сделали они это по прямому указанию Ельцина, который прямо сказал — берите суверенитета столько, сколько сможете переварить.
Национальная безопасность — это обязанность федеральной власти, которая ни в коей мере не должна зависеть от способа формирования органов власти субъектов Федерации. Если выбранный народом губернатор нарушает закон или совершает действия, подрывающие безопасность страны, федеральная власть имеет достаточно рычагов, чтобы отстранить его от занимаемой должности. В то же время избранный руководитель, находящийся под контролем населения, всегда более осторожен в своих действиях, чем лично преданный ставленник с неограниченными полномочиями. Вспомним, кто поставил Дудаева руководить Чечней и кто дал ему оружие. Очевидно, что именно федеральная власть породила своей кадровой политикой наиболее опасные формы сепаратизма. Некомпетентность и слабость федеральных структур власти, отвечающих за национальную безопасность, привели к невиданному ранее разгулу бандитизма и терроризма. Именно федеральная власть организовала криминальную приватизацию, легализовала вывоз капитала и фактически отменила валютный контроль, разрешив преступникам прятать деньги за границей и спонсировать террористов через зарубежные банки.
Смею предположить, что авторы политической реформы надеются сбросить ответственность с федеральных органов власти на назначаемых ими региональных руководителей. И не только в сфере социальной политики, но и в области национальной безопасности. То есть за подавление терроризма будут отвечать не вооруженные и обученные федеральные спецслужбы, а совершенно не подготовленные к этой работе региональные руководители, дело которых — не борьба с бандитизмом, а хозяйственные и социальные вопросы. Это как раз и приведет к дальнейшему снижению эффективности системы национальной безопасности.
И последний, самый важный вопрос: зачем президент заменяет остатки народного контроля режимом неограниченной личной власти? Против кого эта власть будет направле на? Каких целей она добивается? Ответ на этот вопрос дает проводимая в стране социальная реформа…
Можно ли власть, которая уходит от ответственности за уровень жизни и развитие страны и в то же время пытается все взять под контроль, подавляя любую оппозиционную деятельность, считать патриотичной и эффективной? Можно ли патриотической и эффективной считать власть, которая попустительствует коррупции и вывозу капитала, отгораживаясь от населения административной машиной и лишая граждан права иметь своих персональных представителей во власти?
Если кто-то придерживается такой точки зрения, то он должен нам доказать, что самым патриотичным и эффективным образцом государственного устройства являются диктаторские режимы банановых республик, а образцом для нас в таком случае должен стать Туркменбаши, создавший наиболее завершенную и совершенную модель государственного устройства на обширном постсоветском пространстве.
Опубликовано в «Новой газете» 16 декабря 2004 г.
СЛЕПОй ВЕДЕТ ГЛУХОГО
Именно такое впечатление складывается после прочтения проекта Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2005— 2008 гг.) и Плана действий Правительства Российской Федерации по ее реализации в 2005 г. Эти документы были представлены министром экономического развития и внешней торговли Грефом на утверждение в Правительство России 15 февраля 2005 г. (далее по тексту статьи — Программа).
Анализ проблем и постановка задач
Как известно, правильная диагностика проблем и постановка задач составляют необходимое условие формирования эффективной политики социально-экономического развития
и «половину дела» по ее реализации. В соответствии с реко мендациями учебного курса по системному анализу авторы Программы начинают ее изложение с формулировок цели и задач. В качестве «стратегических целей развития страны» выдвигается повышение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе динамичного и устойчивого экономического роста. «Ключевым условием» их достижения объявляется обеспечение неуклонного роста конкурентоспособности России.
Авторы Программы не утруждают себя раскрытием понятия конкурентоспособности, ограничиваясь пустой фразой о том, что «в современном мире от конкуренции нельзя защититься — в ней можно только победить или проиграть».
Напрасно читатель будет ломать голову над вопросом: конкурентоспособности в каких областях хотят достичь авторы программы? На 229 страницах текста нет упоминания ни об одной конкретной технологии или приоритетном направлении экономического развития, не говоря уже о механизмах их осуществления. В соответствии с примитивной доктриной рыночного фундаментализма авторы Программы повторяют, словно по шпаргалке, азы популярных учебников по макроэкономике для первокурсников — оказывается «создание равных условий конкуренции для всех предприятий при ясных и прозрачных правилах игры и есть главная задача правительства в сфере экономики». По мнению авторов, «вмешательство же государства искажает конкуренцию и отдаляет от главной задачи — построения эффективной экономики».
Остается только догадываться, как при таком подходе правительством должна быть решена увязанная по целям и срокам задача резкого повышения конкурентоспособности трех составляющих:
— человека;
— государственных институтов; — бизнеса.
Ведь если под конкурентоспособностью человека понимать его образовательно-квалификационный уровень, то без крупномасштабных государственных инвестиций в образование ее не повысить.
Если под конкурентоспособностью бизнеса понимать научно-технический уровень производственного потенциала и его экономическую эффективность, то без многократного по вышения инвестиционной и инновационной активности ее не обеспечить. А это предполагает многократное увеличение ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), развертывание механизмов кредитования производственных предприятий, модернизацию инфраструктур, что также требует кардинального повышения и роли государства, и государственных инвестиций на эти цели. Стимулирование научно-технического прогресса (НТП) является важнейшей функцией современного государства, так же как организация механизмов воспроизводства человеческого капитала и долгосрочного кредитования экономического роста.
Авторы Программы, по-видимому, не читали ни книг, ни специальных исследований о роли государства в обеспечении социально-экономического развития. Незнакомы они и с закономерностями современного экономического роста. Поэтому и задачи, которые они ставят, не имеют никакого отношения к ключевым проблемам социально-экономического развития страны.
Напрасно читатель будет искать ответы на вопросы о путях преодоления нарастающих тенденций деградации производственного и человеческого потенциала страны, отставания российской экономики по техническому уровню, вывоза капитала и утечки умов за рубеж, утраты главного источника развития — способности страны к генерированию и применению новых знаний и технологий.
Вместо серьезного анализа проблем социально-экономического развития страны в Программе под рубрикой «Важнейшие вызовы современного этапа экономического роста в России» декларируются общие фразы либо двусмысленного содержания, либо вообще лишенные конкретного смысла. Такие вызовы, как «низкая эффективность государственного управления» или «отсутствие условий и стимулов для развития человеческого капитала», так же как низкий уровень конкуренции, — это прямые следствия проводимой государством политики, а рассматриваемая программа лишь является ее продолжением. Другие декларируемые вызовы — «высокая доля нерыночного сектора», «неравномерное осуществление реформ на субфедеральном уровне», «низкий уровень интеграции российской экономики в международные экономические отношения» — вообще вызовами не являются. Даже школьнику понятно, что проблема заключается не в уровне интеграции страны в мирохозяйственные связи, а в характере ее специализации. По показателям внешнеэкономической открытости и зависимости российская экономика более интегрирована в мировую, чем, например, американская. Но США специализируются на экспорте наукоемких товаров и технологий и на импорте умов. Россия, наоборот, экспортирует умы, сырье и капитал, импортируя готовую продукцию. Оказавшись на сырьевой периферии мирового рынка, Россия несет огромные потери от неэквивалентного внешнеэкономического обмена, который с момента распада СССР сводится с балансом в минус полтриллиона долларов по движению капитала, и еще с большим ущербом от утечки умов.
Авторы программы признают в качестве «вызова» слабую диверсификацию, создающую высокую зависимость от мировой конъюнктуры цен на основные экспортные товары. Но зависимость от мировой конъюнктуры цен — это лишь одно из следствий более глубокой проблемы — деградации научно-производственного и интеллектуального потенциала страны, вызванного неверной политикой самоустранения государства от решения задач стимулирования инновационной и инвестиционной активности и защиты национальных интересов во внешнеэкономической сфере.
Отказавшись от поддержки отечественных товаропроизводителей, государство тем самым поставило их в неравные конкурентные условия по отношению к иностранным корпорациям, пользующимся доступом к дешевым кредитам, государственным субсидиям на НИОКР, имеющим разветвленную глобальную сеть сбыта своих товаров.
Если бы правительство России честно выполняло главный постулат Программы о «создании равных условий конкуренции для всех предприятий», то оно многократно бы увеличило расходы на стимулирование НТП, совместно с Центробанком создало бы механизмы долгосрочного кредитования производственных предприятий и рефинансирования банковских кредитов под развитие производства, организовало бы
предоставление гарантий под экспортные кредиты, ввело бы компенсационные пошлины и другие защитные меры против недобросовестной торговой практики со стороны импортеров. В общем, действовало бы подобно другим развитым государствам, всемерно защищая интересы своих товаропроизводителей и помогая им в освоении новых технологий в целях продвижения своей продукции в острой конкурентной борьбе на мировых рынках.
Вместо этого правительство пассивно констатирует деградацию российской экономики и декларирует принцип равной удаленности и уравнительный подход ко всем субъектам хозяйственной деятельности, не принимая в расчет колоссальные преимущества транснациональных корпораций и содействуя таким образом захвату ими российского рынка. По-видимому, небескорыстно, ведь одним из таких преимуществ иностранных компаний является коррумпированность российских чиновников, которым открываются зарубежные счета для перечисления комиссионных за бездействие в защите интересов российских товаропроизводителей.
В результате формального равенства возникает колоссальное фактическое неравенство в условиях конкуренции — российские предприятия платят за кредит впятеро дороже иностранных конкурентов, получают в тысячи раз меньше государственных субсидий и других форм поддержки, работают на изношенном оборудовании и несут повышенные производственные издержки. При этом чиновники, призванные защищать национальные интересы России, предпочитают работе с отечественными предприятиями встречи с представителями крупнейших ТНК и разглагольствования на международных конференциях о либерализации российского рынка.
Как, к примеру, можно объяснить противоправное давление г-на Грефа на главного санитарного врача России с требованием снять ограничения на импорт недоброкачественной американской курятины? Неизвестно, сколько заплатили за это лоббирование американские фирмы, но российские птицефабрики точно понесли от такой странной и противоестественной активности российского министра многомиллионные убытки, а российские граждане потребили немалое количество вредных для здоровья гормональных препаратов, содержащихся в американских продуктах, не рекомендуемых к потреблению в самих США.
Глубокое непонимание сути проблем авторы программы демонстрируют и в региональной политике. Вместо того чтобы констатировать разрушительные тенденции нарастания дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития, они рассуждают о неравномерном осуществлении реформ и о бесполезности, даже нежелательности финансового выравнивания развития регионов. Хорошо бы им пожить хотя бы пару месяцев за 100 километров от Москвы в роли учителя средней школы или квалифицированного рабочего. Возможно, тогда бы они почувствовали на себе многократные различия в уровне жизни между регионами. Когда среднестатистические различия между регионами по доходам и бюджетным расходам на душу населения достигают 5—8 раз, впору говорить о разрушении единого социальноэкономического пространства страны, чреватого серьезными угрозами национальной безопасности.
Авторы программы из-за недостаточной образованности и непонимания предмета просто не видят ни главных проблем социально-экономического развития страны, ни возможностей их решения. Повышение конкурентоспособности государства они понимают как дальнейший демонтаж его функций. Перефразируя известные слова сталинской эпохи «нет человека — нет проблем», можно сказать, что незамысловатая логика авторов Программы сводится к принципу «нет государства — нет задач».
Действительно, нельзя же всерьез считать, что главной задачей правительства является создание равных условий конкуренции. Ведь они в принципе не могут быть равными для среднего производственного предприятия и гигантской монополии, для разоренного машиностроительного завода и доминирующей в мире транснациональной корпорации, для забытого государством леспромхоза и наукоемких производств комплексной переработки леса, размещенных для переработки российского леса по ту сторону границы…
Но авторы программы за деревьями не видят леса — они не понимают ни реальных проблем, ни возможностей развития российской экономики, они не знают ни ее болезней, ни методов их лечения. Вопрос заключается лишь в том, бу дет ли правительство России реализовывать эту Программу, оставшись глухим к рекомендациям ученых и специалистов, или возьмет на вооружение современные знания отечественной и мировой науки?
Как будет показано ниже, третьего не дано — подготовленную Грефом Программу невозможно исправить в силу ее полной несостоятельности. То, что в ней правильно, — банально и носит декларативный характер, а то, что предлагается конкретно, — неправильно и вредно. Эту программу следует опубликовать как образец невежества и профнепригодности ее авторов. Или же попробовать реализовать с колоссальным ущербом для страны в назидание потомкам, в очередной раз удивив весь мир.
Рассмотрим предлагаемые в Программе «Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации в среднесрочной перспективе и методы их реализации».
Прорыв в Средневековье
Именно так можно охарактеризовать избранные в программе способы реализации первого из заявленных приоритетного направления социально-экономической политики — реформы образования. Хотя эта реформа преподносится как модернизация образования, на самом деле речь идет о банальной коммерциализации этой отрасли со снижением государственных обязательств. Цель этой реформы ставится более чем скромная — «сохранить более высокий уровень российского образования по сравнению с тем, который характерен для стран сопоставимого уровня социально-экономического развития». Для справки заметим, что к числу таких стран, с которыми мы соседствуем в рейтингах уровня социально-экономического развития, относятся Алжир, Панама, Венесуэла…
При всех декларативных заявлениях г-на Грефа о необходимости перехода к экономике знаний, судя по его Программе, речь идет об экономии на знаниях. Единственно конкретный тезис в разделе «модернизация образования» подразумевает именно это: «для удовлетворения индивидуальных потребностей детей в течение всего периода обучения в общеобразовательной школе им будут предоставляться услуги дополни тельного образования. При этом расширение возможностей выбора учащимися школ индивидуальных образовательных траекторий будет способствовать снижению недельной нагрузки учебного плана».
В переводе на общедоступную терминологию речь идет о введении частичной платности среднего образования. Планируется сократить объем бесплатно предоставляемой обязательной образовательной программы, освободив время для факультативных добровольных уроков, которые будут вестись за отдельную плату. Таким образом, около четверти услуг средней школы будет предоставляться на коммерческой основе. С учетом крайне низких доходов большинства российских семей «модернизация» образования будет означать сокращение часов обучения и получаемых знаний.
Следствием этой реформы станет разрушение единого образовательного пространства страны. Одновременно с введением частичной платности среднего образования меняется статус средней школы, которая получает юридическую самостоятельность и принуждается государством к самостоятельному зарабатыванию денег. Нетрудно спрогнозировать, что школы разделятся на элитные, где будут обучаться дети богатых родителей и квалифицированные учителя смогут получать хорошую зарплату, и все остальные, в которых не будет хватать педагогических кадров и возможностей качественного обучения. В целях решения проблем собственного выживания учебные заведения подталкиваются к оказанию коммерческих услуг, наиболее безобидными из которых станет сдача в аренду учебных помещений и торговля «сникерсами» в школьных коридорах.
Таким образом, в XXI в., который обоснованно характеризуется как век перехода к экономике знаний, нам навязывается снижение образовательного уровня подрастающего поколения. В то время как европейские и другие развитые страны переходят к системе общедоступного бесплатного высшего образования и нормой становится всеобщее 14-летнее образование, российское правительство тянет нас назад, в позапрошлый век, когда за образование приходилось платить, и оно оставалось привилегией богатых.
Именно к этому сведутся реальные последствия предложенной в Программе реформы образования. Остальные ее по
ложения, со многими из которых можно было бы согласиться, имеют гораздо меньшее значение и носят формальный характер. В случае реализации этой программы мы рискуем к середине XXI века оказаться с полуграмотным населением и бесповоротно утратить способность к генерированию и применению новых знаний, что составляет главный источник современного экономического роста.
Наша образовательная система, конечно же, нуждается в модернизации, понимаемой в соответствии с общепринятым значением этого термина. В словаре русского языка С.И. Ожегова «модернизировать» — значит вводить усовершенствования, сделать отвечающим современным требованиям.
Необходима информатизация образовательного процесса, оборудование школ современной техникой, кардинальное повышение квалификации преподавателей, которые должны учить детей не только «сумме знаний», но, прежде всего, способности творчески мыслить. Для этого необходимо соответствующее увеличение финансирования образования. В условиях, когда 80% семей с двумя и более детьми имеют среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, сделать это может только государство.
Авторы программы старательно обходят вопрос государственного финансирования образования. Между тем он является ключевым — для сохранения и реализации модернизации образовательного потенциала страны необходимо, как минимум, двукратное увеличение государственных ассигнований на эти цели. Возможности для этого у государства есть. Но оно предпочитает вывозить миллиарды долларов за рубеж, оставляя учителей с нищенской зарплатой, а школы — без денег. Вместо того чтобы обеспечить нормальное финансирование образования, правительство решает проблему недостатка средств на содержание школ путем сокращения их количества и самого образования в целом.
Коммерциализация образования в принципе не может обеспечить нормальный уровень его финансирования. Наивные рассуждения авторов программы по повышению инвестиционной привлекательности системы образования не учитывают одной существенной человеческой особенности. Человек, даже сведенный к хомо экономикус, — это не продукт фабричного производства, а свободный индивид. Он сам себе выбирает место работы вне зависимости от того, кто финансировал его образование. Из этого следует, что инвестор, вкладывающий средства в образование, не может рассчитывать на приватизацию результата своих инвестиций. Именно поэтому образование во всех странах со сложившейся рыночной экономикой развивается как общественное благо и финансируется в решающей степени государством. Попытка сбросить эту функцию на мифических «инвесторов» приведет лишь к соответствующему снижению инвестиций в развитие образования.
Любящий рассуждать про экономику знаний г-н Греф, видимо, не понимает, что расходы на образование и науку — это ключевые составляющие инвестиций в создание и применение знаний. Экономика знаний требует перехода к всеобщему высшему образованию, которое должно быть доступно каждому человеку. Так же как индустриализация предполагает всеобщее среднее образование, переход к постиндустриальной экономике знаний требует всеобщего высшего образования. Расходы на образование становятся ключевой составляющей инвестиций в развитие, вместе с расходами на здравоохранение, науку и культуру их доля в совокупных инвестициях развитых стран составляет более половины и намного превышает инвестиции в материально-техническую составляющую производственного потенциала.
Аналогичные недоразумения возникают и при рассмотрении второго приоритета программы, который формулируется как «повышение эффективности функционирования системы здравоохранения». И в этой сфере повышение эффективности понимается как сокращение государственных обязательств, экономия на здоровье граждан камуфлируется как «внедрение оптимальных финансовых механизмов обеспечения здравоохранения».
Планируемая в программе конкретизация государственных гарантий в области здравоохранения понимается как приведение оказываемых бесплатно медицинских услуг в соответствие с объемом средств, выделяемых на их финансирование через систему обязательного медицинского страхования. К этому сводится смысл предлагаемой в программе реформы здравоохранения, которая заключается во введении жестких бюрократических процедур по контролю над расходами на оказание медицинской помощи населению. Врачи будут отвечать за расходование средств, а не за лечение больных. Вместо лечения человека предлагается проведение формальных бюрократических процедур диагностики его болезней и выписки установленных лекарств — в пределах утвержденных нормативов.
Планируемая в Программе коммерциализация здравоохранения приведет к стагнации финансирования этой отрасли на сложившемся уровне. Это повлечет за собой сокращение медицинских услуг, объем которых будет приведен в соответствие со средствами, выделяемыми государством на эти цели за вычетом стоимости услуг страховых компаний. Об этом свидетельствуют и целевые показатели реализации программы, предусматривающие сокращение количества вызовов «скорой помощи» и «излишних мощностей больниц».
По-видимому, авторы Программы давно не посещали больницы и не вызывали городскую службу «скорой помощи». Иначе бы они и не посмели говорить об «излишних мощностях больниц», в которых пациенты лежат в коридорах изза недостатка мест, и о сокращении вызовов «скорой помощи», которую часто приходится ждать несколько часов. Греф и его соавторы, наверное, лечатся за рубежом и пользуются услугами недоступных для населения элитных клиник. Поэтому они не понимают, что в рамках выделяемых сегодня на здравоохранение средств повысить качество и доступность медицинской помощи невозможно физически.
Международные сопоставления свидетельствуют о том, что количество госпитализаций в стране не является чрезмерным. Данные по количеству госпитализаций в разных странах в расчете на 100 человек населения показывают, что Россия лишь незначительно превышает уровень большинства европейских стран. Этот показатель в конце 90-х годов в нашей стране был всего на 10% выше, чем в среднем по странам Европы, и на 10—20% ниже, чем в Австрии, Венгрии, Литве, Финляндии. Показатель средней занятости больничной койки (более трехсот дней в году) превышает соответствующий показатель для большинства других стран.
Заметим также, что Россия отстает от развитых стран по показателю численности больничного персонала в расчете на одну больничную койку. То же самое относится и к об
щей численности занятых в здравоохранении. Численность занятых в лечебно-профилактических учреждениях России составляла в 2000 г. 5,5% от общей численности населения, занятого в экономике, в то время как уже в начале 90-х годов численность занятых в здравоохранении в процентах от общей численности занятого населения составляла в Австралии — 6,9%, Нидерландах — 6,6%, Норвегии — 9,1%, Франции — 6,8%, Финляндии — 8,3%, Швеции — 10,0%, Швейцарии — 9,9%. В США этот показатель составлял в 1990 г. 6,6%, в 2000 г. — 7,4%. Численность занятых в здравоохранении развитых стран имеет устойчивую тенденцию роста, при этом рост занятости в этой сфере опережает рост общей занятости населения. Такая тенденция объясняется, в частности, постоянным освоением новых медицинских технологий, которые не являются трудосберегающими и требуют увеличения численности как медицинского, так и немедицинского персонала лечебно-профилактических учреждений.
Таким образом, рассуждения авторов Программы об избыточности коечного фонда в больницах или врачей есть не более чем невежество лиц, которым президент поручил заниматься здравоохранением на горе всем гражданам России. Платой за эту некомпетентность становится резкое, на пять лет, сокращение средней продолжительности жизни населения. В России она на 12—15 лет меньше, чем в развитых странах. По этому показателю, интегрально отражающему уровень жизни населения, Россия переместилась за годы «реформ» с 35-го на 120-е место в мире.
Реформирование здравоохранения должно предусматривать не менее чем двукратное повышение финансирования этой отрасли, доведение доли расходов на здравоохранение до 6% ВВП, характерных для постсоциалистических стран Центральной Европы и соответствующих рекомендациям авторитетных международных организаций в этой области. Это будет означать лишь частичное восстановление прежнего уровня расходов на здравоохранение, который сократился по сравнению с 1991 г. втрое. Сделать это путем коммерциализации здравоохранения невозможно по тем же причинам, рассмотренным выше в отношении образования, — у большинства граждан нет денег, необходимых для полной оплаты нужных им медицинских услуг. Государству совместно с медицинскими страховыми компаниями необходимо решать эту задачу не за счет граждан, а мобилизуя дополнительные источники финансирования.
Здравоохранение требует реформирования, но не путем урезания бесплатной медицинской помощи под планируемое правительством снижение социального налога. Если исходить из Программной декларации о том, что «целью реформы здравоохранения является повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения», то политика государства в этой области должна строиться определенным образом.
Во-первых, гарантируемые государством объемы бесплатной медицинской помощи должны устанавливаться не путем «стандартизации медицинских технологий», как записано в Программе, а на основе оценки потребности населения в охране здоровья и последовательного увеличения ассигнований на эти цели. Стандартизация медицинских технологий — это технический вопрос, облегчающий оценку расходов, но не их требуемый объем.
Во-вторых, должны быть четко разделены обязательства по финансированию расходов на здравоохранение между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Федерации и системой обязательного медицинского страхования. Последняя должна гарантировать страхование рисков заболевания граждан по всем случаям, угрожающим их жизни и здоровью. Очевидной основой планирования расходов в этой системе должен быть не объем средств, собираемый на эти цели по социальному налогу, а фактический объем текущей медицинской помощи, оказываемой населению государственными учреждениями здравоохранения за определенный базовый период. Страховые компании нужны не для того, чтобы пропускать государственные средства для государственных же медицинских учреждений, а для того, чтобы страховать риски, связанные со здоровьем клиентов. Из этого следует, что государственные фонды обязательного медицинского страхования должны напрямую финансировать государственные медицинские учреждения исходя из установленных нормативов их содержания. А страховые компании — непосредственно финансировать лечение больных, включая расходы на лекарства, обследования и медицинские услуги, предоставляе мые организациями здравоохранения по выбору застрахованного лица. Непосредственно из бюджета должны выделяться средства на развитие здравоохранения, включая финансирование медицинских исследований, инвестиции в модернизацию государственных учреждений здравоохранения, а также на выравнивание уровня расходов на душу населения в различных регионах страны.
В-третьих, должны быть четко установлены и профинансированы за счет федерального бюджета приоритетные направления профилактики социально обусловленных болезней, включая СПИД, туберкулез, алкоголизм и наркоманию. Особое значение имеет всеобщая вакцинация населения, расходы на которую также должны финансироваться за счет федерального бюджета.
В-четвертых, федеральный бюджет должен взять на себя расходы по диспансеризации всех детей и подростков, а также по содержанию родильных домов и женских консультаций. Особое значение имеет работа по обустройству и лечению беспризорных детей, которая также должна финансироваться федеральным бюджетом как общенациональная проблема.
В-пятых, должны быть многократно увеличены государственные расходы на медицинскую науку, информатизацию и модернизацию медицинских учреждений. В развитых странах здравоохранение стало одним из ведущих локомотивов экономического роста — применение современных медицинских технологий позволяет существенно улучшить здоровье и продлить жизнь, кардинально повышая ее качество. Биотехнологии в медицине, фармацевтика, профилактика болезней и физкультура становятся ведущими отраслями экономики XXI века.
К сожалению, авторы Программы не хотят понять, что расходы на здравоохранение, образование, науку и культуру являются инвестициями в воспроизводство человеческого капитала, ставшего главным фактором современного экономического роста. Расходы на эти цели правительством воспринимаются не как инвестиции, а как подлежащие минимизации затраты. Парадоксальным образом одновременно с ростом ВВП и доходов бюджета правительство сокращает долю государственных расходов на здравоохранение, которые за время после катастрофического 1998 г. снизились с 3,4% до 2,5% ВВП. То есть по мере роста финансовых возможностей государства финансирование здравоохранения ухудшается. В Программе планируется дальнейшая коммерциализация социальной сферы, что в нынешних российских условиях повлечет не только снижение уровня жизни миллионов граждан, но и подорвет воспроизводство человеческого капитала.
Специальные исследования показывают, что среди причин резкого сокращения продолжительности жизни российского населения снижение уровня и качества медицинских услуг занимает одно из первых мест. Восстановление в 2001—2006 гг. дореформенного уровня финансирования здравоохранения позволило бы сохранить жизнь 1,3 млн. человек трудоспособного возраста. Это вполне возможно при нынешних доходах государственного бюджета и экономически эффективно — на каждый дополнительный рубль расходов на здравоохранение экономия инвестиций составляла бы 0,12—0,27 рублей.
Таким образом, вопреки и мировым тенденциям, и интересам страны, планируемое правительством реформирование социальной сферы ведет не к ее модернизации, а к деградации в ущерб здоровью граждан, откату к механизмам воспроизводства человеческого капитала позапрошлого века. Реализация этих планов будет иметь катастрофические последствия не только для миллионов семей, лишаемых социальных гарантий на современное образование и охрану здоровья, но и для народа России в целом, так как закрепит тенденцию социального расслоения, ухудшения здоровья и деградации большинства населения.
Впрочем, авторов программы благополучие русского народа не волнует. Его вымирание они предлагают компенсировать путем «легализации положения нелегальных мигрантов». Программа констатирует, что «сложившиеся демографические тенденции делают экономически целесообразным стимулирование замещающей миграции, то есть миграции, компенсирующей сокращение численности всего или отдельных групп населения».
Иными словами, авторы Программы относятся к народу России как к человеческому сырью, недостаток которого можно восполнить более дешевым и неприхотливым импортируемым «человеческим материалом». Судя по содержанию предлагаемых в Программе мер по антисоциальной рефор
ме, под повышением конкурентоспособности человека они понимают широкое применение рабского труда бесправных иммигрантов из Азии, которые должны вытеснить «неконкурентоспособных» русских, требующих социальных гарантий, уважения своих прав и настаивающих на справедливой оплате своего труда.
Таким образом, на словах признавая, что «главное конкурентное преимущество современной высокоразвитой страны связано с человеческой личностью и теми факторами, которые непосредственно связаны с жизнедеятельностью человека», на практике программа предусматривает не развитие этих факторов (образование, здравоохранение, жилье), а их деградацию, демонтаж механизмов ответственности государства за их состояние и развитие.
Сытый голодного не разумеет
В перечне приоритетов авторы Программы не могли, разумеется, обойти вопрос борьбы с бедностью. Для этого предлагается пересмотреть существующие механизмы социальной помощи и создать условия для вовлечения бедных трудоспособных, но не работающих граждан в экономическую деятельность. Повышение зарплаты и обеспечение социальных гарантий не упоминаются в числе приоритетных направлений борьбы с бедностью. Беднякам, ставшим таковыми вследствие государственной политики распределения национальных богатств в пользу власть имущих, авторы Программы предлагают самим решать свои проблемы.
Это неудивительно, учитывая, что авторы Программы не знают проблемы, которую собираются решать. Они наивно полагают, что причиной недостаточной успешности бедных граждан на рынке труда является то, что они значительно уступают небедным гражданам по уровню образования. На самом деле особенностью большинства русских бедняков является их вполне высокая квалификация и практический опыт, которых в любой другой стране было бы достаточно для получения хорошо оплачиваемой работы. Вина наших инженеров, ученых, учителей, врачей, молодых специалистов заключается в том, что вследствие порочной политики государства были разорены тысячи потенциально конкурентоспособных предприятий, а богатейшее в мире государство вдруг стало настолько бедным, что не может дать достойную оплату труду учителя, ученого, врача.
В отличие от бедности в других странах, где она действительно охватывает главным образом неквалифицированную и малообразованную часть населения, в России бедными стали высококвалифицированные и вполне конкурентоспособные кадры. Эмигрируя, они быстро находят хорошо оплачиваемую работу за рубежом. Ущерб, который несет Россия от утечки умов, оценивается экспертами ООН в сотни миллиардов долларов. И Греф вместе с другими малообразованными авторами Программы, которых едва ли взял бы кто на работу, кроме Путина, не понимают, что именно их безграмотной политике обязаны своей бедностью миллионы высококвалифицированных специалистов.
Главной причиной чудовищной бедности большинства населения России является разрушение научно-производственного потенциала и недостойно низкая оплата труда. И то и другое является следствием проводившейся до сих пор социально-экономической политики. Без ее изменения преодолеть массовую бедность и вырождение населения России невозможно. В частности, необходимо перейти к последовательной политике стимулирования НТП, инновационной и инвестиционной активности, организовать кредитование производственной сферы, развернуть меры по защите внутреннего рынка и повышению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.
Ничего подобного в Программе не предусматривается. Не предусматриваются в ней и меры по повышению оплаты труда. Авторы программы даже не осознают, что сохранение минимальной зарплаты на уровне ниже прожиточного минимума позорно для России. Они рассуждают о либерализации рынка труда, чтобы усилить конкуренцию среди рабочей силы, но ни слова не говорят о повышении оплаты труда, которая в России вчетверо ниже в расчете на единицу производимой продукции, чем в развитых странах. Доля оплаты труда в использовании ВВП в России в полтора раза ниже вкла да труда в создание ВВП.
Эксплуатация труда в России самая высокая в мире, что является вторым по важности источником сверхприбыли российских олигархов. Первым же источником сверхприбыли остается природная рента, половина которой присваивается в частных интересах и уходит из страны, вместо того чтобы использоваться в интересах народа России, который является собственником природных ресурсов. В последнем случае доходы работников бюджетной сферы можно было бы удвоить в течение двух лет за счет соответствующего повышения доходов бюджета, а не повысить на 40% к 2008 г., как это предлагается в Программе за счет ликвидации «неэффективных» рабочих мест. Можно только догадываться, сколько рабочих мест в образовании, науке, здравоохранении, культуре и армии собираются сократить авторы Программы… А сокращаемым работникам, отдавшим годы жизни служению государству, остается надеяться на чудо, обещанное авторами Программы, — трудоустройство за счет «синхронизации процессов высвобождения работников бюджетной сферы и поддержки развития в регионах малого предпринимательства».
Обедневшие по вине государства граждане не дождутся от правительства не только повышения реальной оплаты труда и пенсий, но и элементарной помощи. Как пишут авторы, «учитывая низкую эффективность подавляющего большинства действующих социальных программ с точки зрения сокращения бедности, на первом этапе (2005—2006 гг.) представляется нецелесообразным увеличение в реальном выражении расходов на их финансирование». Вместо этого предлагается реорганизация механизмов социальной защиты.
Под реорганизацией, как нетрудно догадаться, понимается замена большинства социальных гарантий и обязательств государства денежными компенсациями. Только вот миллионы российских граждан, об улучшении материального положения которых трогательно заботится г-н Греф, не понимают своего счастья и протестуют против замены социальных гарантий унизительными подачками «на бутылку и закуску».
Четвертый приоритет Программы, в отличие от первых трех, правительство сможет выполнить. Речь идет о том, что не следует подрывать достигнутый уровень макроэкономической стабильности. Не приходится сомневаться, что про должение проводимой правительством политики стерилиза
ции не только денежной массы, но и основных источников экономического роста обеспечит нашей стране окончательную и необратимую деградацию человеческого и производственного капитала. Может быть, в этом и состоит цель политики правительства?
Ответ на этот вопрос дает анализ пятого приоритета — «совершенствования институциональной системы».
Одно из наиболее спорных положений Программы — переход от раздельного налогообложения земли и иных объектов недвижимости к налогообложению единого объекта недвижимости, используя при этом оценку рыночной стоимости объектов недвижимости. На практике это будет означать существенное увеличение поборов с населения, проживающего в центральных районах крупных городов с высокой стоимостью земли. Теоретически это положение несостоятельно, так как земля и стоящие на ней сооружения — это разные объекты, которые могут иметь разных собственников и иметь разный состав прав собственности. К примеру, с точки зрения интересов граждан и оптимизации развития городов целесообразно сохранение права бесплатного использования земли под многоквартирными домами, храмами, образовательными и медицинскими организациями. Предлагаемое в Программе введение в гражданское законодательство понятия «единого имущественного комплекса объектов недвижимости» имеет смысл в ограниченном числе случаев и не должно навязываться в качестве универсальной правовой формы. Многое из того, что кажется естественным земельным спекулянтам, в интересах которых правительство стараниями г-на Грефа пробивало весьма несовершенный и во многих своих положениях просто вредный для развития городов Земельный кодекс, противоречит интересам общества.
Другое ошибочное положение Программы — навязчивая идея ее авторов о сокращении нерыночного сектора. По их определению, «основные признаки принадлежности к нерыночному сектору — наличие регулируемых цен, дотаций и субсидий». Судя по тексту, авторы Программы вообще не понимают предмета, о котором рассуждают. К примеру, они пишут, что РАО ЕЭС субсидирует население за счет промыш ленных потребителей. Может, они не знают, что г-н Христен ко в период исполнения обязанностей премьера позволил РАО ЕЭС не только произвольно повышать тариф для населения, но и включать в его калькуляцию оплату безнадежных долгов промышленных потребителей. Но уж наверняка авторам Программы должно быть известно, что в интересах крупных промышленных энергопотребителей, щедро оплачивающих услуги коррумпированных бюрократов, правительство давно приняло решение об установлении для них льготных тарифов, многократно заниженных по сравнению с тарифами для населения. Фактически население сегодня субсидирует производителей алюминия и других энергоемких товаров.
Нерыночный сектор потому и называется нерыночным, что в нем объективно отсутствуют механизмы свободной рыночной конкуренции. Он включает в себя естественные монополии, которые в отсутствие эффективного государственного регулирования просто обворовывают потребителей, завышая цены на свои услуги, а также отрасли социальной сферы, работающие в интересах общего блага, коммерциализация которых повлечет снижение как уровня жизни, так и общественной эффективности этих видов деятельности.
Совершенно пустым по содержанию является раздел «Реформирование науки и стимулирование инноваций», который должен быть ключевым, если бы правительство всерьез планировало переход на инновационный путь развития к экономике знаний. В этом разделе нет даже намека на создание механизмов стимулирования инновационной активности, условий для творческой самореализации молодых специалистов, остановки утечки умов, модернизации промышленности на основе новейших технологий или сохранение научных школ, многие из которых находятся на грани уничтожения.
Вместо этого в разделе содержится такая мысль: «необходимо создать единую систему изготовления, оформления и контроля заграничных документов нового поколения с использованием биометрических параметров». Чувствуется зловещее дыхание сторонников полицейского государства… А верующие видят в этом сатанинское стремление лишить человека свободы выбора, предсказанное в Апокалипсисе.
Ничего полезного в Программе не найдут для себя и индивидуальные предприниматели. В ней нет конкретики о фор мировании институтов кредитования малого бизнеса, госу
дарственных гарантиях и развитии соответствующей инфраструктуры. Одни общие фразы, под аккомпанемент которых малый бизнес с трудом выживает в последнее десятилетие.
Ничего не сказано о возможных решениях проблемы вывоза капитала и утечки умов, наносящих стране ежегодный ущерб в десятки миллиардов долларов. Правительство не думает о необходимости придания рублю статуса международной валюты и перехода к его полной конвертируемости, что расширило бы финансовый потенциал российской экономики и возможности кредитования экономического роста, во многом сняло бы проблему вывоза капитала. Вместо этого они продолжают сквозь пальцы смотреть на долларизацию российской экономики, существенно снижающую ее конкурентоспособность и увеличивающую издержки торговли.
Столь же бессодержательным является раздел о региональных аспектах политики социально-экономического развития. Трудно определить, чего здесь больше — глупости или цинизма, когда авторы Программы рассуждают, к примеру, о наличии нескольких уровней власти и управления, ответственных перед собственными избирателями за проводимую политику. Как будто они не знают о том, что выборы губернаторов избирателями отменены и реальной ответственности перед ними ни один уровень власти, за исключением местного самоуправления, не несет…
Напрасно читатель Программы будет искать в ней способы решения ключевой проблемы региональной политики — быстро нарастающей дифференциации между регионами страны по уровню жизни и экономического развития, разрывающей единое социальное и экономическое пространство России. Несмотря на то что различия по объемам производства и доходам граждан на душу населения между субъектами Федерации достигают десятикратной величины, авторы Программы стараются не замечать этого: «политикой федеральных властей в среднесрочной перспективе будет не столько выравнивание социально-экономического развития и благосостояния регионов, сколько обеспечение единства экономического пространства и создание условий для добросовестной конкуренции между регионами и муниципаль ными образованиями за привлечение ресурсов». На практи ке это означает, что богатые будут становиться богаче, а бедные — беднее, дифференциация регионов страны по уровню жизни и экономического развития усилится. Учитывая, что по-настоящему богатыми могут считаться только Москва и Тюменская область, имея в виду собственные возможности, такая политика приведет к типично колониальной структуре размещения производительных сил. Богатая столица, посредничающая между страной и внешним миром в поставках сырья за рубеж и получении из-за рубежа кредитов и инвестиций для эксплуатации нищающей периферии, — типичная картина в слаборазвитых колониально зависимых странах Африки и Латинской Америки.
К сожалению, вместо серьезного анализа проблем территориального развития, формирования реалистичных программ оживления депрессивных регионов, наращивания конкурентных преимуществ разнообразных регионов при соблюдении единых для всех граждан страны социальных гарантий, этот раздел Программы состоит из пустых фраз, прикрытых наукообразной терминологией.
В общем, предложенная Грефом Программа от силы тянет на средненькую курсовую студенческую работу. Однако она не может быть даже предметом серьезного научного обсуждения. Лишенная позитивного практического смысла, она едва ли заслуживает анализа в части долгосрочного прогноза роста российской экономики. Хотя бы потому, что при такой среднесрочной программе долгосрочный прогноз не имеет смысла. Он носит сугубо умозрительный характер, не опираясь ни на инвентаризацию конкурентных преимуществ российской экономики, ни на понимание перспектив развития глобальной экономики. Это тем более прискорбно, учитывая, что российская экономическая школа сильна исследованиями долгосрочных тенденций социально-экономического развития и изобилует весьма интересными и практичными рекомендациями по формированию долгосрочной стратегии экономического роста на современной научно-технологической основе. Но Грефа, к сожалению, этому не учили…
Опубликовано в «Российском экономическом
журнале» (2005, № 2). Воспроизводится с сокращениями
КАК ОСТАНОВИТЬ ЦЕНОВОй БЕСПРЕДЕЛ
Продемонстрированные на всю страну новостные сюжеты о личной озабоченности президента ростом цен на мясо в очередной раз показали неспособность власти выполнять одну из важнейших функций государства в условиях рыночной экономики — функцию регулирования цен. Президент страны спрашивает министра сельского хозяйства о том, не беспокоит ли последнего 30-процентный рост цен на мясо и 20-процентный рост цен на хлеб, а незадолго до этого публично уговаривает руководителя крупнейшей нефтяной компании остановить рост цен на бензин. Неужели у государства нет законных механизмов борьбы со злоупотреблениями монопольным положением на рынке?
Антимонопольное регулирование — основная функция государства в рыночной экономике. В мире накоплен огромный опыт борьбы со злоупотреблениями монополистов и регулирования рынка в целях обеспечения добросовестной конкуренции. Но в России более чем за десятилетие рыночных реформ этот опыт оказался невостребованным. Мы пережили галопирующую инфляцию, обесценивание сбережений, глубокое расстройство воспроизводственных механизмов вследствие ценового хаоса. Ключевая причина этих кризисных явлений — злоупотребления монополистов.
В отсутствие антимонопольной политики их аппетиты достигли гигантских размеров. Завышение цен в два раза, а на продовольственные товары массового спроса — в три-четыре раза по отношению к себестоимости продукции в нашей стране стало нормой. Государственная власть смотрит сквозь пальцы на это массовое ограбление потребителей, оправдывая свою бездеятельность рассуждениями о «невидимой руке рынка», которая будто бы сама обеспечит оптимальное распределение ресурсов.
В теории рыночного равновесия действительно доказывается, что в условиях свободной конкуренции максимальное извлечение прибыли каждой фирмой ведет к достижению наиболее эффективного использования ресурсов в точке равновесия, к которой экономическая система приходит самостоятельно. Подчеркнем, что главным условием, без которого эта точка не может быть достигнута, является свободная конкуренция. При этом по мере приближения к точке равновесия норма прибыли каждой фирмы стремится к нулю. Наиболее эффективному распределению ресурсов соответствуют оптимальные цены, при которых норма прибыли всех свободно конкурирующих друг с другом фирм становится равной нулю.
Этот научный результат легко интерпретируется в терминах экономической политики. Действительно, если на рынке соблюдается принцип свободной конкуренции и ни одна из фирм не может влиять на рыночные цены, то главным способом максимизации прибыли становится снижение издержек. Поскольку все фирмы действуют таким образом, происходит повышение эффективности и снижение цен вплоть до исчерпания технико-экономических возможностей совершенствования производства продукции. Соответственно снижается и средняя норма прибыли, которая у отдельных фирм может повышаться только путем сокращения издержек за счет внедрения новых технологий.
За 15 лет рыночных реформ в российской экономике ни разу не было замечено снижения цен. Это следствие банального отсутствия свободной конкуренции на российском рынке. Даже на рынках с огромным количеством участников фирмы согласованно повышают цены для получения монопольной сверхприбыли за счет потребителей. В результате — снижение и уровня жизни населения, и эффективности экономики. Действительно, вместо внедрения новых технологий и снижения издержек основным способом повышения прибыли становится простое завышение цен.
Именно так ведут себя частные фирмы в отсутствие антимонопольного регулирования рынка со стороны государства. Максимизация прибыли — естественный мотив деятельности фирмы, которая для этого пытается использовать наиболее легкие способы. Фирмы просто договариваются между собой о разделе рынка и согласованном завышении цен. Именно так устроен российский рынок нефти и нефтепродуктов, который территориально разделен между крупными нефтяными компаниями, ведущими себя как типичный картель. В каждом регионе действует один крупный монополист, который
фактически диктует цены потребителям, пользуясь сезонны ми колебаниями спроса. Как правило, он повышает цены на солярку перед посевной и уборочной кампаниями в сельском хозяйстве, на бензин — весной перед выездом автомобилистов с зимних гаражей, на мазут — осенью перед отопительным сезоном. Норма прибыли нефтяных монополий зашкаливает за 100%, в то время как нормальной на этом рынке, согласно общемировой практике, считается рентабельность продукции в пределах 10—20%. Все, что сверх этого — монопольная сверхприбыль, получаемая за счет потребителей и природной ренты. Аналогичная картина наблюдается в химико-металлургическом комплексе, контролируемом картелями крупных компаний.
Рынки не только товаров с высокой концентрацией производства и сбыта, но и с тысячами мелких торговцев контролируются монопольными группами, которые часто создаются организованной преступностью при попустительстве коррумпированной бюрократии. Характерным примером являются продовольственные рынки крупных городов, цены на которых многократно превышают равновесный уровень, соответствующий условиям свободной конкуренции. При его соблюдении цена продажи товара потребителю редко превышает цену покупки того же товара у производителя более чем в 1,5—2 раза. У нас же потребитель платит за продовольственные товары в 5—10 раз больше, чем получает за них производитель (см.: Табл. 1). Остальное достается криминальным структурам, монополизировавшим торговлю.
Таблица 1. Сравнительная таблица цен (сентябрь — октябрь 2005 г.)
| Наименование продукта | Цена производителя
(за кг) |
Розничная цена на московских рынках (за кг) |
| яблоки
(Воронежская область) |
8 рублей | 24 — 30 рублей |
| свекла
(Московская область) |
4 рубля | 15 рублей |
| картофель
(Московская область) |
3—5 рублей | 7—13 рублей |
| картофель
(Рязанская область) |
3,7 рубля | 10—13 рублей |
| морковь
(Московская область) |
6 рублей | 15—20 рублей |
| арбузы
(Астраханская область) |
70 копеек | 9 рублей |
| помидоры (Астраханская область) | 3 рубля | 25—30 рублей |
| баклажаны (Астраханская область) | 2,7 рубля | 15 рублей |
| перец
(Астраханская область) |
4,5 рубля | 30 рублей |
| молоко 2,8%
(Московская область) |
8—10 рублей за литр | 20—35 рублей за литр |
| говядина
(Московская область) |
60—80 рублей | 100—120 рублей |
Ясно, что норму прибыли в 300—1000% можно получать только путем преступного сговора, когда вместо государства регулированием рынка занимается организованная преступность. Прикрываемая коррумпированными чиновниками и даже правоохранительными органами, она фактически хозяйничает на продовольственных рынках российских городов и наживается за счет граждан.
Об этом хорошо знают поставщики, которых бандиты не пускают на рынок, а также домохозяйки, многократно переплачивающие многочисленным торговцам, синхронно устанавливающим цены. Знают и градоначальники — в городах, очищенных от организованной преступности на рынках, цены на продовольственные товары в два-три раза ниже, чем у соседей. Подтверждением многократного завышения цен криминальными монополиями, контролирующими розничную сеть в крупных городах, являются цены в некоторых сверхкрупных московских супермаркетах, которые вдвое ниже цен в сетях «неорганизованной» розничной торговли.
Если даже на рынках с десятками тысяч участников очевидны массовые злоупотребления монополий, то что говорить о естественных монополиях, опекаемых коррумпированными чиновниками. По некоторым данным, тарифы на электроэнергию втрое превышают себестоимость выработки и доставки электроэнергии, еще больше завышены тарифы на тепло. Сверхприбыли посреднических структур на рынке железнодорожных перевозок свидетельствуют о существенном завы шении тарифов на эти услуги.
Примеры монополизации российского рынка можно про должать до бесконечности. Организованная преступность и коррумпированные чиновники играют на нем доминирующую роль при полном попустительстве со стороны правоохранительных и антимонопольных органов. Последние сетуют на несовершенство законодательства, отвергая при этом многочисленные законодательные инициативы по его совершенствованию, оправдывая свою бездеятельность и фактически прикрывая монополистов. Многочисленные попытки местных властей пресечь злоупотребления монополистов и отобрать контроль над рынком у организованной преступности сплошь и рядом наталкиваются на протесты прокуратуры и антимонопольного ведомства.
Вместо выполнения важнейшей государственной функции по антимонопольному регулированию и обеспечению добросовестной конкуренции правительственные чиновники, не желая ссориться с монополистами, списывают инфляцию на денежную политику, пытаясь гасить рост цен ограничением денежной массы, то есть снижением конечного спроса. При этом правительственные экономисты шокируют публику абсурдными заявлениями. К примеру, президентский советник Илларионов всерьез утверждал об избытке денег в задыхающейся от нехватки инвестиций российской экономике и уговаривает президента поощрять вывоз капитала. Вместо того чтобы вернуть долги населению и восстановить отобранные государством дореформенные сбережения, президент списывает миллиарды долларов иракского и сирийского долга, досрочно погашает долги МВФ и попустительствует вывозу капитала из России. Министр финансов Кудрин на фоне массовых акций протеста людей, лишенных социальных гарантий и доведенных нищетой до отчаяния, рассуждает об избытке денег в бюджете и отдает сотни миллиардов государственных средств в кредит американскому правительству.
Как хорошо известно, инфляция порождается разными факторами, среди которых наряду с денежным предложением не меньшую роль играет предложение товаров, склонность населения к сбережению доходов, скорость обращения денег, охарактеризованные выше злоупотребления монополистов. Сводить все причины инфляции к одному фактору денежного
предложения можно, только абстрагировавшись от всех дру гих, как будто в экономике единственной формой поведения предприятий является повышение цен за счет злоупотребления монопольным положением на рынке. Собственно на это и настраивает экономическую систему проводимая властью политика, игнорирующая функции антимонопольного регулирования рынка, организации кредита, защиты сбережений населения, стимулирования инвестиционной и инновационной активности. Отказываясь от должного выполнения этих функций и сводя всю макроэкономическую политику к ограничению денежной массы, государственная власть фактически поощряет монопольное поведение.
Между тем в рыночных условиях нет более страшного экономического преступления, чем злоупотребление монопольным положением на рынке. Ведь это равносильно воровству, так как по сути означает противоправное присвоение чужих доходов. Поэтому во всех уважающих себя странах государство жестко пресекает злоупотребления монополистов, а предприниматели панически боятся обвинений в монополизме. За это могут не только оштрафовать, но и посадить в тюрьму, конфисковать продукцию, лишить права заниматься предпринимательской деятельностью. Наша же государственная власть, наоборот, в конфликте между обществом и монополистами выражает интересы последних, попустительствуя монопольным злоупотреблениям и пытаясь тормозить инфляцию за счет населения, которое таким образом грабится дважды: один раз — монополистами, завышающими цены, а другой — государством, занижающим доходы и сокращающим спрос.
Для нас не столь важно, почему руководители российского государства принимают теоретически абсурдные и практически вредные для страны решения — из-за некомпетентности или коррумпированности. Важно, что вследствие этих решений разрушается научно-производственный потенциал страны и преждевременно уходят из жизни миллионы лишенных работы и средств к существованию людей.
До тех пор, пока государство не займется последовательной жесткой антимонопольной политикой, мы будем жить в условиях высокой инфляции и низких доходов граждан, порождающих массовую нищету работоспособного населения и разорение конкурентоспособных предприятий, не обладающих монопольным положением на рынке. При этом добро совестная работа теряет смысл, так как в такой экономической системе основным путем к богатству является присвое ние чужого — выигрывают только монополисты.
Нынешние доклады правительственных экономистов о том, что инфляция взята под контроль, не должны вводить в заблуждение. Эта инфляция просто отложена вследствие искусственного сдерживания доходов населения и конечного спроса. В 2004 году внутренние цены предприятий на промышленную продукцию выросли на 26%, на продовольственные товары — на 10,4%, то есть более чем в три раза превысили потребительские цены.
Изменения в системе цен производителей в первую очередь ухудшают конкурентоспособность отечественной продукции. Наиболее высокие темпы прироста цен — на 60% — отмечены в отраслях, ориентированных на экспорт: в черной металлургии, в нефтяном комплексе угольной промышленности. Вскоре эта инфляционная волна, порожденная монополистами в сырьевом секторе, накроет и потребительский рынок. Уже сегодня мы видим, что тарифы на коммунальные услуги, размеры которых превысили доходы многих семей, создают угрозу базовому праву граждан на благоустроенное жилье, что в нашем климате означает и право на жизнь.
Пора, наконец, антимонопольному ведомству оставить слова о недостатке полномочий, а добиваться их реализации, не страшась борьбы с монополистами и преступностью. Министру финансов — заниматься исполнением бюджетных обязательств государства, а не их ликвидацией под предлогом «стерилизации денежной массы». Центробанку — организовывать кредит и гарантировать сохранность сбережений, а не снижать конечный спрос и подавлять производство, зажимая денежное предложение и связывая его в спекулятивных операциях. Государственной думе — принять, наконец, давно подготовленный специалистами и внесенный нами законопроект о ценообразовании и ценовой политике, который создает необходимые правовые условия для пресечения монопольных злоупотреблений и обеспечения добросовестной ценовой конкуренции. Тогда у нас заработают нормальные рыночные механизмы роста производства и общественного благосостояния, в основе которых должна лежать добросовестная конку ренция, а не присвоение чужого[2].
Открытие продовольственного рынка для свободного доступа товаропроизводителей позволит снизить цены на основные продукты питания в 2—3 раза и, соответственно, поднять уровень жизни населения, устранить важнейший фактор инфляции. Для этого необходимо в течение ближайших месяцев реализовать следующий комплекс мер, доказавших свою эффективность в ряде регионов страны:
- восстановить государственный (муниципальный) контроль над продовольственными рынками, гарантировав свободный доступ на них товаропроизводителям. Органам внутренних дел необходимо дать четкое предписание немедленного возбуждения уголовных дел по всем фактам принудительного ограничения доступа на рынок, навязывания цен и иных условий продажи товаров. Главам муниципальных образований следует взять под личный контроль обеспечение свободного доступа товаропроизводителей на розничный продовольственный рынок;
- очистить товаропроводящую сеть от криминального контроля и открыть для свободного доступа товаропроизводителей. Для этого под системный антимонопольный контроль должны быть поставлены плодоовощные базы, элеваторы, транспортные узлы, агропромышленные корпорации, исключены злоупотребления со стороны контрольных органов. При необходимости органы государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления должны создавать сети муниципальных магазинов и транспортных организаций, обеспечивающих прямые поставки товаров из села в город, проводить товарные интервенции и пр.;
- развернуть систему льготного кредитования сезонных расходов сельхозтоваропроизводителей, позволяющую им самостоятельно реализовывать выращенный урожай;
- стимулировать создание вертикально-интегрированных агропромышленных корпораций, учреждаемых и контроли-
руемых сельхозтоваропроизводителями. Для этого объединени ям сельскохозяйственных предприятий должны предоставляться долгосрочные льготные кредиты на строительство перера батывающих мощностей по производству продовольственных товаров, приобретение и лизинг необходимого оборудования;
- восстановить трансрегиональные крупнотоннажные перевозки сельхозтоваров из южных регионов в крупные города. На первом этапе федеральное правительство могло бы взять на себя организацию железнодорожных и речных перевозок, которые позволили бы установить прямые связи между сельхозпредприятиями и торговыми сетями крупных городов. В ближайшее время можно было бы реализовать несколько демонстрационных примеров на основе совместных проектов заинтересованных регионов.
При всей очевидности этих рекомендаций реализовать их в условиях действующего на сегодняшний день разделения полномочий федеральному правительству будет непросто. Для этого надо перейти к активным действиям в сфере антимонопольной и торговой политики, борьбы с коррупцией в правоохранительных органах, заняться реальной организацией отношений добросовестной конкуренции в экономике. Судя по программным документам, правительство России к этому не готово.
Опубликовано с сокращениями в «Парламентской газете» в 2005 г.
БюДЖЕТ КОЛОНИАЛЬНО ЗАВИСИмОГО ГОСУДАРСТВА
Выступление на пленарном заседании Государственной думы 22 сентября 2006 г.
Дорогие коллеги, прозвучавшая здесь критика правительственной бюджетной политики явно не позволяет поддержать бюджет. И наша фракция будет голосовать против по вполне объективным основаниям.
Министр финансов оговорился, поведав о чудесах, ко торые ожидают наш, как он сказал, «советский» народ. Такое впечатление, что мы присутствовали на последнем съезде КПСС. И эта оговорка неслучайна, потому что наше правительство сегодня намного дальше стоит от народа, чем в советский период. И когда сравниваешь патетические высказывания министра финансов по поводу «бюджета инвестиций в человека», о том, что это «прорывной бюджет стратегических проектов», то кажется, что мы живем в разных странах. Ваша страна, Алексей Леонидович (обращаясь к Кудрину. — Ред.), называется «Домом правительства», а наша страна называется Россией.
Давайте посмотрим на цифры. Я не вижу, к сожалению, руководителя бюджетного комитета — он, видимо, отчитался и ушел. Он говорил, что у нас бюджет носит явную «социальную направленность». Обратимся к структуре бюджета в терминах доли в ВВП. Я буду сравнивать даже не с развитыми странами, а с Африкой. Если сопоставить социальные расходы нашего федерального бюджета и расходы правительств стран Африки по отношению к ВВП, то у нас они в 6 раз меньше. По образованию в 5 раз меньше, по здравоохранению — в 3 раза. Зато на содержание госаппарата по отношению к ВВП мы расходуем в 1,5 раза больше даже уровня африканских диктатур. Как можно в здравом уме говорить о социальной направленности бюджета, когда 42% наших бюджетных расходов — это расходы на госаппарат, оборону, правоохранительную деятельность. И только 15% — расходы на социальные нужды.
Господа, давайте не будем лукавить, не будем сами себя обманывать! Это не социальный подход, это не западный подход, как тут некоторые говорили, даже не африканский подход. Это абсолютно архаичный бюджет образца XIX века, когда государство было не государством развития, не социальным государством, а полицейско-бюрократическим, с весьма ограниченными функциями. Не смешно ли называть такой бюджет социальным? Грустно, уважаемые коллеги, и стыдно.
Если вам это непонятно, давайте перейдем к заработной плате. Минимальная зарплата по-прежнему составляет 1/3 от прожиточного минимума. Такого позора нет ни в одной стране Европы — может, только в Молдавии зарплата ниже. И Ук раина, и Белоруссия, и Казахстан, и Прибалтика давно уже определяют минимальную зарплату в соответствии с прожиточным минимумом. Им не помешали рассуждения об убыточности сельского хозяйства и легкой промышленности, потому что люди видят политику комплексно, а не пытаются все сводить к ограничению конечного спроса. Не позор ли, что при профиците бюджета в 1,5 трлн. рублей 2 млн. работников бюджетной сферы имеют зарплату ниже прожиточного минимума. Даже если мы с вами сложим все социальные расходы вместе, то получим цифру примерно в 16% от консолидированного бюджета. Это почти на 6% меньше среднемирового уровня социальных расходов центральных правительств. Таким образом, профицит бюджета, который оценивается приблизительно в 6% ВВП, возникает не потому, что у нас лишние деньги, а потому, что наше государство на эту сумму недофинансирует социальную сферу по сравнению с общепринятыми в мире стандартами.
Так, на здравоохранение мы тратим 2,8% от ВВП, а должны тратить, как минимум, 5%. На образование тратим 4%, а должны — 8%. На науку — 0,5%, а должны — хотя бы 1,5%. Получается, что профицит бюджета существует только в голове у министра финансов. В регионах, на чьи плечи легли основные расходы, мы видим недофинансирование социальной сферы. По здравоохранению, например, нехватка денег на финансирование базовой программы бесплатной медицинской помощи составляет 30%.
1,5 трлн. рублей профицита, которые правительство выводит из экономики, — это нонсенс. К сожалению, нет и руководителя Комитета по экономической политике (Валерия Драганова. — Ред.), который отчитался и ушел — вопрос для него ясен. Он глубоко ошибается, когда говорит, что это бюджет экономического роста. Как можно, находясь в здравом уме, будучи экономистом, говорить, что если изъять 1,5 трлн. рублей денег наших налогоплательщиков из экономики, сокращая на соответствующую сумму конечный спрос, то происходит поддержка экономического роста. Наоборот, таким образом вы тормозите экономический рост.
Да, экономика растет, растут расходы бюджета, но, Алексей Леонидович, они растут не благодаря правительству, а вопреки вашей политике торможения экономического роста.
Вы все время ссылаетесь на боязнь инфляции. Я бы в связи с этим попросил Сергея Вадимовича Степашина (председатель Счетной палаты. — Ред.) опубликовать или хотя бы прислать нам расчеты, которые подтвердили бы правильность гипотезу министра финансов: если профицита не будет, тогда инфляция достигнет 20%.
Я таких расчетов не видел, а то, что видел, — это не расчеты, а школярские упражнения, не имеющие никакого научного обоснования. Да, денежная масса быстро растет, в Китае она растет еще быстрее, но там никому в голову не приходит замораживать деньги налогоплательщиков и, тем более, вывозить их за границу. О том, что тезис об избытке денег неверен, говорит хотя бы тот факт, что наши предприятия вынуждены занимать деньги за рубежом. На 200 млрд. долларов они взяли кредитов за границей. То есть в той сумме, в которой правительство выводит деньги из экономики через Стабилизационный фонд, вкладывая их по сути в финансирование дефицита бюджета других стран, российские предприятия вынуждены их занимать. Только наше государство вкладывает их под 2—3% годовых, а предприятия занимают под 10%. Где вы видели такую политику саморазорения страны?
Получается, чем больше денег от экспорта нефти и газа мы зарабатываем, тем меньше кредитно-денежных ресурсов остается для наших предприятий. Неужели непонятно, уважаемый Алексей Леонидович, что зависимость между приростом денежной массы и инфляцией опосредована состоянием рынка, его институтов? Если у вас рынок криминализирован, если цены диктуют монополии, если правоохранительные структуры коррумпированы и поощряют организованную преступность, то и получается, что зарплата у нас в 5 раз ниже, чем в нормальных странах, а цены выше. Эта абсурдная политика лишь ухудшает состояние экономики и социальной сферы. Мы бы могли жить на порядок лучше, если бы не догматизм людей, которые отвечают за макроэкономику в нашем правительстве.
Что необходимо сделать, с нашей точки зрения? Если мы хотим иметь социальное государство, то нужно ориентироваться на общепринятые в мире нормативы финансирования социальной сферы. Это означает необходимость удвоения расходов на здравоохранение и на образование, утроение расхо дов на науку. Тогда у нас появится возможность сбалансировать бюджет по расходам и доходам. Что, в свою очередь, позволит увеличить темпы роста валового продукта примерно на 6%. Мы получим дополнительно полтриллиона рублей за счет повышения темпов экономического роста. Таким образом, мы будем иметь 2 трлн. рублей дополнительных средств, которые можно направить в том числе и на повышение минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума.
Конечно, нужно принимать меры по сокращению инфляции. Необходимы усилия и по декриминализации рынков и по стимулированию роста производства (в том числе за счет кредитов малому бизнесу). Нужна модернизация коммунального хозяйства, которая поднимет эффективность этой отрасли и снизит колоссальные потери. И, конечно, нужно стимулировать инновационную активность, потому что главным антиинфляционным фактором, уважаемые коллеги, является научно-технический прогресс. Он снижает издержки, повышает эффективность. Благодаря ему люди начинают жить лучше.
Наконец, о накопленной части Стабилизационного фонда. Это 2 трлн. рублей. Стыдно, уважаемые господа, что мы допускаем ситуацию, при которой наше государство, практически полностью рассчитавшись по внешним долгам, забыло о собственных гражданах. Я говорю о дореформенных сбережениях населения. Деньги из Стабфонда необходимо направить на поэтапное решение этой важнейшей проблемы. Или для вас наши граждане — не люди? Иностранцам нужно долги погашать, а нашим гражданам — нет?
Главный приоритет этого бюджета — вывоз капитала. Причем вывоз капитала фактически в пользу стран НАТО. Главный источник дефицита стран НАТО — военные расходы. Получается, что мы с вами субсидируем их военные расходы, тратя на это в 2 раза больше средств, чем на собственную оборону. Давайте называть вещи своими именами. Это по сути бюджет колониально зависимого государства, которое работает вопреки интересам собственного народа. Как можно за него голосовать?
Опубликовано на сайте www.glazev.ru 22 сентября 2006 г.
БюДЖЕТ-007: ВСЕ ТОТ ЖЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОмИЧЕСКИй СмЫСЛ
Декларируемые цели и задачи бюджетной политики Согласно заявленным правительством Основным направлениям бюджетной и налоговой политики на 2007 год, ее основными целями являются:
- «Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы в долгосрочном периоде».
- «Продолжение политики аккумулирования конъюнктурных доходов в Стабилизационном фонде с расширением его функций в качестве «фонда будущих поколений».
- «Повышение результативности бюджетных расходов. Недопущение увеличения количества принимаемых обязательств, препятствующего сопоставлению и выбору наиболее эффективных направлений использования бюджетных средств».
- «Усиление роли среднесрочного финансового планирования».
- «Дальнейшее расширение самостоятельности и ответственности главных распорядителей бюджетных средств, прежде всего путем разработки и внедрения методов и процедур оценки качества финансового менеджмента на ведомственном уровне, развития внутреннего аудита, укрепления финансовой дисциплины».
- «Повышение качества «человеческого капитала».
- «Обеспечение прозрачности и эффективности закупок для государственных и муниципальных нужд. Расширение практики проведения совместных торгов государственными и муниципальными заказчиками».
Следует заметить, что ни в целях, ни в задачах бюджетной политики не отражены такие фундаментальные понятия, как обеспечение социальных гарантий и выполнение социальных обязательств, создание благоприятных условий для успешного социально-экономического развития страны и подъема благосостояния граждан, стимулирование научно-технического прогресса и повышение конкурентоспособности националь
ной экономики, преодоление бедности и повышение качества жизни российских граждан. Бюджетная политика по-прежнему ведется без понимания смысла и целей деятельности современного государства, в отрыве от интересов граждан и задач социально-экономического развития страны. В ее формировании преобладает ведомственный подход, удобный финансовым властям, исходящим из формальных догм вульгарного монетаризма и отрицающим общепринятые в современном мире принципы социального государства и государства развития. При этом нет недостатка в популистских демагогических заявлениях о социальном повороте в бюджетной политике, о ее нацеленности на развитие экономики и т.п.
Декларируемые правительством цели и задачи бюджетной политики внутренне противоречивы и сомнительны. Указанная первой цель сбалансированности противоречит второй цели — наращиванию Стабилизационного фонда. Огромный профицит бюджета создает дисбаланс между доходами и расходами государства, который негативно сказывается на социально-экономическом развитии страны: сдерживает экономического рост, не позволяет реализовать уникальные возможности перехода на инновационный путь развития, парализует решение острых социальных проблем. Вследствие замораживания и вывоза из страны значительной части бюджетных доходов искусственно сдерживается рост конечного спроса и инвестиций, происходит двукратное снижение темпов прироста ВВП. Это, в свою очередь, противоречит третьей продекларированной правительством цели бюджетной политики — повышению результативности бюджетных расходов.
Единственная содержательная цель из продекларированных правительством — повышение качества человеческого капитала, — судя по данным правительственного Прогноза социально-экономического развития страны, не будет реализована. Согласно последнему, в 2007 г. сохранится сверхвысокая смертность населения, продолжится сокращение его численности (на 440 тыс. человек), усилится тенденция постарения трудоспособного населения, значительная часть которого (5,4 млн. человек, или 7,4%) останется безработными. Причем около 70% безработных — лица с профессиональным образованием. Удручающая бедность и высокая безработица среди квалифицированных трудоспособных граждан (в том числе 2,1 млн. бюджетников имеют доходы ниже прожиточного минимума) свидетельствует о безответственном отношении государства к качеству «человеческого капитала», который продолжает стремительно деградировать.
Остальные цели бюджетной политики носят либо технический характер, либо не имеют позитивного смысла. К последним относится «эффективное участие России в инициативах мирового сообщества по облегчению долгового бремени беднейших стран», влекущее прямые финансовые потери государства, и «совершенствование управления государственной собственностью», понимаемое исключительно как ее «приватизация». При этом является сомнительным сам смысл приватизации остатков государственного имущества в условиях профицита бюджета. Тем более приватизации научноисследовательских организаций, конструкторских бюро, объектов инфраструктуры и социальной сферы, которые после будут перепрофилированы новыми собственниками исходя из коммерческих интересов. Таким образом, наносится очередной удар по научно-техническому и человеческому потенциалу страны.
Таким образом, цели и задачи бюджетной политики, заявленные правительством, противоречат принципам современного социального государства, не соответствуют общенациональным интересам в обеспечении успешного социально-экономического развития страны и повышения уровня жизни населения, являются внутренне противоречивыми и сомнительными. Их реализация объективно влечет недоиспользование имеющихся возможностей государства по обеспечению социальных гарантий и созданию условий для социально-экономического развития страны, замедление экономического роста, препятствует решению ключевых социальных проблем.
Реальные приоритеты бюджетной политики
О реальных приоритетах бюджетной политики можно судить по структуре бюджетных расходов, сопоставляя ее с функциональными обязанностями современного государства. В ходе социальной реформы, сопровождавшейся передачей значительной части социальных обязательств государства с федерального правительства субъектам Федерации, были упразднены законодательно установленные нормативы финансирования науки, образования, культуры, национальной обороны. Это дает правительству формальные основания говорить об исполнении всех своих обязательств, установленных федеральными законами. В проекте закона о федеральном бюджете на 2007 г. отсутствует перечень законодательных актов, действие которых должно быть приостановлено из-за отсутствия средств по выполнению вытекающих из них государственных обязательств. По существу же судить об этом можно только на основании анализа консолидированного бюджета страны, оценивая финансовое обеспечение соответствующих государственных функций по сравнению с общепринятыми в мире стандартами.
Если исходить из конституционного определения Российского государства как социального и демократического, то к его основным функциям следует отнести обеспечение социальных гарантий в сфере образования, охраны здоровья, безопасности и защищенности граждан. Кроме этого, для реализации конституционного права каждого гражданина на достойную жизнь и свободное развитие государство обязано гарантировать право на достойно оплачиваемый труд, благоустроенное жилье, свободный доступ к мировым информационным ресурсам и культурным ценностям. Современное государство выполняет также функцию стимулирования развития, организовывая и поддерживая научные исследования, стимулируя НТП, создавая благоприятные условия для роста инвестиционной и инновационной активности. Разумеется, у государства остаются и традиционные функции обеспечения обороны и безопасности, защиты прав собственности, поддержания правопорядка.
Формально о приоритетах бюджетной политики государства можно судить по структуре расходов консолидированного бюджета. Самой большой статьей в показателях консолидированного бюджета на 2007 г. является «профицит бюджетных ресурсов» величиной в 1,58 трлн. рублей. Учитывая, что он перечисляется в Стабилизационный фонд (а последний расходуется на приобретение долговых обязательств США и ряда европейских государств), приходится констатировать, что главным приоритетом бюджетной политики российского правительства является финансирование дефицита бюджета США и ряда государств ЕС. Вторая по величине статья расходов — национальная экономика (1,28 трлн. рублей) — более чем на 60% финансируется за счет бюджетов территорий. Третья и четвертая статьи — образование (1,23 трлн. рублей) и здравоохранение (0,87 трлн. рублей) — на 76% финансируются территориями. Приоритетами собственно федерального бюджета являются расходы на национальную оборону (0,82 трлн. рублей), национальную безопасность и правоохранительную деятельность (0,85 трлн. рублей), которые в основном финансируются правительством. Социальная политика (0,75 трлн. рублей) и жилищно-коммунальное хозяйство (0,66 трлн. рублей) являются следующими по величине расходов приоритетами бюджетной политики государства, финансируемыми в основном регионами. При этом величина ассигнований из федерального бюджета на эти цели уменьшается абсолютно на 2,9 и 6,8 млрд. рублей соответственно. Последними по величине являются расходы на культуру (0,21 трлн. рублей) и охрану окружающей среды (0,03 трлн. рублей), также финансируемые преимущественно территориями.
Разумеется, ранжирование приоритетов бюджетной политики по величине расходов не вполне корректно, так как различные функции государства сильно различаются своей капиталоемкостью. Скажем, для обустройства беспризорных детей требуется несравнимо меньше средств, чем для обеспечения обороноспособности. Сравнение этих направлений по величине расходов не отражает их относительной приоритетности. Чтобы оценить приоритетность какого-либо направления бюджетной политики, выделяемые ассигнования следует сравнивать с объективной потребностью в средствах для полноценной реализации соответствующей функции государства. К сожалению, отсутствие необходимых для этого нормативов не позволяет дать таких оценок по всему кругу государственных функций. Косвенно оценить реальные приоритеты бюджетной политики можно исходя из общемировых закономерностей, отражающих объективные требования к современному государству.
Исходя из мирового опыта, можно оценить параметры финансирования важнейших государственных функций, соответствующие современным требованиям. Так, расходы на
здравоохранение должны составлять от 5% к ВВП (минимально допустимый уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения) до 10% (уровень наиболее благополучных стран), расходы на науку — 1,5—3% к ВВП, на образование — 6—9% ВВП.
В проекте консолидированного бюджета России на 2007 г. расходы на образование составляют около 4% ВВП, на здравоохранение — около 2,8% ВВП. Если суммировать все отраженные в консолидированном бюджете ассигнования на социальные нужды (3,764 трлн. рублей), то их совокупный вес в ВВП составит 12%. Если к ним прибавить межбюджетные трансферты (1 трлн. рублей), направляемые главным образом на поддержку отраслей социальной сферы и социальные программы, то величина социальных расходов государства достигнет 15,5% ВВП. Это существенно меньше уровня финансирования социальных функций государства не только центральными правительствами развитых стран (21,6%), но и находящихся с нами в одной категории стран с переходной экономикой (18%) (см.: Табл. 1).
Чтобы исключить возможность занижения социальных расходов Российского государства, к бюджетным ассигнованиям следует прибавить расходы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования. Эти страховые расходы, согласно международной практике, обычно не учитываются, как государственные ассигнования, и их включение в состав социальных расходов Российского государства повлечет соответствующее завышение этой оценки. С учетом этого завышения доля социальных расходов государства в России формально достигнет среднего уровня социальных расходов центральных правительств стран с переходной экономикой, оставаясь существенно ниже уровня развитых стран.
Заметим, что в этих сравнениях социальные расходы по России учтены в полном объеме, тогда как межстрановые сопоставления приводятся только в отношении расходов центральных органов государственного управления. Для корректности к ним следует добавить расходы, финансируемые из местных и субфедеральных бюджетов, а также из внебюджетных фондов. Таким образом, отставание Российского государства от общепринятых в мире стандартов финансиро-
10
вания социальной сферы в 1,5—2 раза больше, о чем также свидетельствуют прямые сопоставления социальных расходов федерального бюджета (см.: Табл. 2).
Как видно из данных таблицы, доля социальных расходов в структуре федерального бюджета России втрое ниже среднемирового уровня и вдвое ниже уровня слаборазвитой Африки. Так что социальным проект федерального бюджета назвать невозможно. Правда, с учетом трансфертов доля расходов на социальные нужды в проекте федерального бюджета достигает почти половины, приближаясь к уровню стран с переходной экономикой. Но по отношению к ВВП и в этом случае Россия существенно отстает не только от среднемирового уровня (более чем в полтора раза), но и от уровня Африки. Таким образом, уровень социальных расходов государства в России является одним из самых низких в мире, он не соответствует ни требованиям социального государства, ни потребностям развития человеческого потенциала.
Чтобы достичь среднемирового уровня социальных расходов, Российскому государству их надо увеличить на 4,9% ВВП. Эта величина соответствует профициту в проекте федерального бюджета, который планируется на будущий год в размере 1,5 трлн. рублей, или 4,8% ВВП. Таким образом, профицит российского федерального бюджета равен объему недофинансирования социальных расходов по сравнению со среднемировым уровнем. Иными словами, профицит федерального бюджета образуется не потому, что Российское государство получает доходов больше, чем ему требуется для выполнения своих функций, а вследствие недофинансирования социальной сферы.
Не лучше обстоит дело и с финансированием другой фундаментальной функции современного государства — функции развития. Объем расходов на ее реализацию складывается из расходов на научные исследования и расходов на национальную экономику. В совокупности они составляют 0,46% ВВП. Это более чем вдвое ниже среднемирового уровня. С учетом степени износа основных фондов и деградации научно-производственного потенциала Российскому государству необходимо поддерживать относительно более высокий уровень расходов на стимулирование НТП, инвестиционной и инновационной активности. Недофинансирование функции развития может быть оценено, таким образом, как трехкратное.
11
|
|
|
|
По уровню расходов на национальную оборону, безопас ность, содержание госаппарата российское правительство лидирует в мире. Доля этих расходов по отношению к ВВП в России является одной из самых высоких в мире, а по доле этих расходов в общих расходах федерального бюджета Россия является абсолютным лидером. Если развитые страны на выполнение полицейско-бюрократических функций расходуют около 11% бюджета своих центральных органов власти, среднемировой уровень этих расходов составляет около 20%, то в российском проекте федерального бюджета на эти цели предусматривается более 42,2%. Это соответствует практике полицейско-бюрократических государств конца позапрошлого века.
Таким образом, анализ структуры расходов в проекте федерального бюджета позволяет следующим образом ранжировать реальные приоритеты бюджетной политики федерального правительства. Первым по значимости приоритетом является вывоз капитала, вкладываемого в государственные обязательства США и ряда стран ЕС. Вторым — обеспечение национальной безопасности, поддержание правопорядка, функционирование бюрократии. Третьим, финансируемым по остаточному принципу — обеспечение социально-экономического развития.
Кроме того, бюджетом предусматриваются мероприятия, лишенные в условиях огромного профицита бюджета иного смысла, кроме обогащения их участников. Это, в частности, относится к распродаже драгоценных камней из государственного резерва, эмиссии облигаций государственного долга, распродажи земель обороны, приватизации многих государственных предприятий. Ведь бюджетные доходы от продажи этих активов не будут потрачены на нужды страны, а уйдут через Стабилизационный фонд на кредитование иностранных государств. Доход по процентам, который на этом получит Российское государство, не превысит инфляционных потерь, в то время как прирост ценности драгоценных камней или эффект от эффективного управления госимуществом мог бы быть гораздо выше. А сооружение новой финансовой пирамиды государственных обязательств в условиях избытка средств следовало бы рассматривать как прямое нанесение ущерба государству.
14
По структуре расходов в проекте федерального бюджета нынешнее Российское государство может быть охарактеризовано как типичное полицейско-бюрократическое колониально зависимое государство образца конца позапрошлого века. Судя по структуре федерального бюджета, его главными целями являются удержание доминирующего положения нынешней властвующей элиты и вывоз капитала за рубеж. Проводимая федеральным правительством архаичная бюджетная политика не соответствует ни требованиям современного государства, ни интересам социально-экономического развития страны, она противоречит конституционным принципам социального и демократического государства.
Социальное значение бюджета-2007
Почти по всем направлениям социальных расходов в проекте федерального бюджета планируется существенный прирост. В том числе, прирост расходов на образование составит 33,8%, на здравоохранение — 32% при увеличении всех расходов на 26,3%. Даже с корректировкой на инфляцию, этот прирост выглядит существенным — соответственно на 24,6%, 22,8%, 17,1%. Но, оценивая общее состояние социальной сферы, следует отметить, что основная часть социальных расходов ведется за счет бюджетов территорий, обеспеченность которых доходами оставляет желать лучшего. Сравнивая проект бюджета на 2007 г. с бюджетом 2006 г., можно сделать следующие выводы.
Прирост социальных расходов государства в 2007 г. составит в соответствии с федеральным бюджетом: на образование — 38,1%;
на здравоохранение — 36,8%, в том числе на националь-
ный проект «Здоровье» — на 72,1%; на социальную политику — минус 3%, в том числе на пен-
сионное обеспечение — на 13,4%, ассигнования на субсидии гражданам для приобретения (строительства) жилья в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище», — в сумме 25,7 млрд. рублей, с ростом к уровню текущего года на 46,7%, средства на государственную поддержку общероссийских общественных организаций от уровня 2006 г. (в 2006 г. — 293,6 млн. рублей) — минус 21%.
Оценивая планируемые на 2007 г. уровни финансирова ния отраслей социальной сферы, приходится констатировать их недостаточность для решения ключевых социальных проблем.
- Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составит более 20 млн. человек, включая 2,1 млн. работников бюджетной сферы. С учетом заниженности величины прожиточного минимума реальное количество российских граждан, живущих за чертой бедности, как минимум, вдвое выше.
Сохраняется главная причина бедности — занижение оплаты труда на единицу выработки в 3—4 раза по сравнению с европейским уровнем. Россия остается единственной страной в Европе, где минимальная зарплата устанавливается ниже прожиточного минимума (до 35%). При этом доля фонда заработной платы в структуре доходов населения уменьшится с 36,6% в 2005 г. до 35,9% в 2009 г. И хотя доля зарплаты в использовании ВВП растет с 22,9% в 2005 г. до 24,5% в 2009 г., она остается существенно (в 1,5—2 раза) ниже вклада труда в создание национального дохода и намного меньше доли зарплаты в использовании ВВП развитых стран.
Таким образом, реализация проекта федерального бюджета окажет сдерживающее влияние на рост заработной платы, многократная заниженность которой остается главной причиной ужасающей бедности российского населения. Периодически проходящая индексация заработной платы бюджетников не обеспечивает решения поставленной президентом задачи ее увеличения в реальном выражении по сравнению с 2005 г. в 1,5 раза. Для этого необходимо предусмотреть повышение номинальной заработной платы в 2007 г. не менее чем на 19%, что потребует дополнительно увеличить соответствующие расходы федерального бюджета ориентировочно на 4,0 млрд. рублей. Многократно больше потребуется средств на соответствующее увеличение зарплаты работникам региональных и муниципальных учреждений.
Недостаточный рост заработной платы работников федеральных государственных учреждений, предусмотренный в бюджете на 2007 г., не позволяет существенно продвинуться в решении еще одной важнейшей задачи в сфере реформирования оплаты труда, которая закреплена в Трудовом кодексе Российской Федерации, — повышения минимального разме ра оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного миниму ма трудоспособного населения.
В соответствии с проектом федерального закона, внесенного одновременно с проектом федерального бюджета, МРОТ устанавливается с 1 сентября 2007 г. в размере 1400 рублей, что составит только 34,9% от величины прогнозируемого размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Дальнейшего же роста этого соотношения Правительство Российской Федерации вообще не предполагает. Между тем речь должна идти, как минимум, об удвоении заработной платы работников бюджетной сферы по сравнению с нынешним уровнем.
- Сохраняется сверхвысокая смертность населения. Коэффициент смертности на 2007 г. прогнозируется в пределах 15,8—16,3 на 1000 человек по сравнению с 16—16,3 в 2006 г. Это в несколько раз выше по сравнению с уровнем развитых стран. Главные причины сверхвысокой смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, заключаются в неблагополучном социально-экономическом положении большинства семей, не уверенных в своем будущем, а также в резком снижении финансирования здравоохранения за годы реформ. И хотя на будущий год планируется существенный прирост ассигнований на здравоохранение из федерального бюджета, общая величина расходов на здравоохранение прирастает существенно меньше (около 20%), а их уровень остается в 1,5 раза ниже минимально допустимого и вдвое ниже необходимого. Сохраняется дефицит финансирования базовой программы медицинской помощи населению в размере около 30%.
Остается недостаточным рост бюджетного финансирования муниципального здравоохранения. Фактически, расходы 2006 г. в сравнении с 2005 г. остаются на том же уровне, хотя год назад прогнозировался рост на 10%.
Таким образом, заметное увеличение расходов на здравоохранение в проекте федерального бюджета явно недостаточно для принципиального улучшения системы охраны здоровья российского населения. Для этого необходимо увеличение совокупных расходов на здравоохранение, как минимум в 1,5 раза по сравнению с нынешним уровнем.
- Не решается проблема деградации имеющегося человеческого капитала.
В проекте бюджета заложены ассигнования на выполнение поставленных в Послании президента задач по стимулированию рождаемости. Прямые расходы на социальную поддержку материнства и детства, включая меры по повышению рождаемости, в 2007 г. возрастут на 33 млрд. рублей. И более чем в 4 раза превысят объем ассигнований на эти цели в 2006 г.
Кроме того, расходы Фонда социального страхования на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, увеличатся почти на 27 млрд. рублей. Расходы на выплату единовременного пособия при рождении ребенка возрастут на 1,7 млрд. рублей в связи с прогнозируемым увеличением рождаемости. Этот же фактор окажет влияние и на рост затрат Фонда на выплату пособия по беременности и родам. Эти расходы возрастут почти на 8,0 млрд. рублей. Ассигнования на оплату «родовых сертификатов» увеличатся на 4,0 млрд. рублей и составят 14,5 млрд. рублей. На 1,5 млрд. рублей увеличатся ассигнования на оздоровление детей. Их объем составит в 2007 году 14,97 млрд. рублей.
Таким образом, в 2007 г. Фонд социального страхования на меры по социальной поддержке семьи, материнства и детства дополнительно израсходует более чем 38 млрд. рублей.
Общие затраты на эти цели составят 89 млрд. рублей.
Вместе с тем объем средств, выделяемых на стимулирование рождаемости, остается явно недостаточным для качественного улучшения демографической ситуации. Вследствие общего крайне низкого уровня доходов работающего населения рождение ребенка резко повышает вероятность снижения среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума. Достаточно сказать, что большинство семей с двумя и более детей имеют доходы ниже прожиточного минимума. Поэтому для гарантирования семей с детьми от бедности величина детских пособий должна устанавливаться на уровне прожиточного минимума ребенка. Причем не только до достижения им возраста 1,5 лет, а до совершеннолетия.
По-прежнему явно недостаточно средств выделяется на профилактику детской безнадзорности и обустройство бес призорных детей. Это целевое направление вообще отсутст вует в видах расходов федерального бюджета, за исключе нием расходов на перевозку детей, самовольно ушедших из семей, детских домов, в размере 0,034 млрд. рублей. Весь прирост средств, выделяемых по этому направлению, идет на стимулирование опеки и попечительства в объеме до 6,17 млрд. рублей. Остается нерешенной проблема обеспечения жильем детей-сирот, которых насчитывается сегодня более 20 тысяч (требуется 22,4 млрд. руб.)
В программе «Здоровое поколение» программы «Дети России», заменившей подпрограмму «Здоровый ребенок», текущие расходы остались без индексации, то есть уменьшатся в реальном выражении более чем на 8%. В то же время прирост инвестиций составляет 45%. Планируется снижение общего объема расходов в подпрограммах «Сахарный диабет» и «Туберкулез», в том числе текущих расходов соответственно на 24% и 32%. Проект федерального бюджета на 2007 г. не вполне решает задачи по улучшению демографической ситуации, поставленные президентом в Послании Федеральному Собранию в 2006 г.
Не предпринимается сколько-нибудь действенных мер по увеличению занятости населения. Ассигнования на осуществление государственной политики занятости населения в сумме 33,03 млрд. рублей в основном расходуются на мероприятия по оказанию социальной поддержки безработным гражданам. По сравнению с объемом ассигнований на аналогичные расходы, предусмотренные в 2006 г., рост расходов на указанные цели в 2007 г. составляет 6,3%. То есть с учетом инфляции они уменьшатся в реальном выражении. Сохраняется высокий уровень общей безработицы, прогнозируемый на будущий год в размере 7,4% по сравнению с 7,6% в 2006 г.
- Правительство планирует продолжение коммерциализации образования. «При некотором сокращении приема студентов на бюджетной основе увеличение численности студентов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования произойдет в основном за счет числа студентов, обучающихся на платной основе».
- В проекте федерального бюджета не предусматривается должных мер по преодолению глубокого кризиса жилищно-коммунального хозяйства. Средств, выделяемых в рамках
национального проекта «Доступное жилье» в размере 50,8 млрд. рублей, явно недостаточно. Для одной только модернизации жилищно-коммунального хозяйства требуется в несколько раз больше.
- Не решается поставленная президентом в Послании Федеральному Собранию задача повысить в 2007 г. размер пенсии в общей сложности на 20% в проекте федерального бюджета на 2007 г.
- Не выполняются обязательства государства по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации за 2006 г. в сумме около 10 млрд. рублей.
В целом проект федерального бюджета продолжает тенденцию недофинансирования социальной сферы. Ни одна из ключевых социальных проблем — вымирание населения, бедность, безработица, детская безнадзорность, деградация человеческого потенциала — не решается должным образом.
Влияние бюджетной политики на экономический рост
Правительство представляет проект федерального бюджета как основанный на «умеренно-оптимистичном» варианте развития, который «ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности российского бизнеса и активизацию структурных сдвигов за счет реализации комплекса мер по ускорению экономического роста». Эффект от осуществления этих мер оценивается правительством в 0,3—0,7% прироста ВВП из прогнозируемых 6%. Это намного меньше негативного влияния на экономический рост профицита бюджета в размере 1,5 трлн. рублей. Их вывод из экономического оборота означает соответствующее сокращение конечного спроса и еще большее (с учетом мультипликатора) снижение ВВП. Последнее можно оценить в 6% ВВП — темпы экономического роста были бы вдвое выше, если бы правительство не замораживало пятую часть бюджетных доходов в Стабилизационном фонде, размещаемом за рубежом. Таким образом, чистый вклад макроэкономической составляющей бюджетной политики правительства в экономический рост в 2007 г. составляет минус 5,5%. Это намного перекрывает положительный эффект кажущегося значительным прирос та бюджетных ассигнований по разделу «национальная эко номика на 46,1% (всего — 459,9 млрд. руб., или втрое мень ше профицита бюджета).
С учетом ранее выведенных и вывезенных за рубеж средств чистый вклад бюджетной политики правительства в экономический рост в 2005—2007 гг. достигнет минус 18% ВВП.
Определенное компенсирующее значение будут иметь запланированные в будущем году налоговые нововведения, ориентированные на стимулирование инвестиций в части оптимизации расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль по убыткам прошлых лет и части расходов на НИОКР, увеличение образовательных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, введение льготного налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых для новых либо выработанных месторождений и прочее.
В проекте бюджета на 2007 г. несколько улучшается финансирование важных целевых программ развития проблемных регионов. В частности, финансирование ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996—2005 годы и до 2010 года» увеличивается на 65%, ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007—2015 годы» — на 58%. Вместе с тем остаются нерешенными проблемы обустройства переселенцев с Севера, субсидирования расходов на северные авиаперевозки и проезда к месту отдыха жителей Крайнего Севера, развития Северного морского пути.
В целом, объем расходов федерального бюджета на государственные инвестиции в 2007 г. вырастет более чем на 1/3. Однако более резкий рост непрограммной части расходов свидетельствует о снижении эффективности инвестиционных расходов. В определенной мере увеличение доли непрограммной части было вызвано решениями Правительства Российской Федерации по досрочному прекращению ряда программ, несмотря на то что задачи, поставленные в них, остались не выполненными, а именно: «Энергоэффективная экономика на 2002—2005 годы и на перспективу до 2010 года», «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002—2010 годы)», «Сейсмобезопасность территории России
(2002—2010 годы)», а также «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Феде рации (2002—2010 годы и до конца 2015 года)».
Таким образом, ухудшение структуры государственных капитальных вложений произошло не по причине снижения потребности в использовании программно-целевого метода, а в результате неспособности организовать своевременную корректировку указанных федеральных целевых программ в соответствии с установленными требованиями.
Говоря о расходах на реализацию федеральных целевых программ, отметим ряд позитивных явлений, в числе которых увеличение финансирования расходов по подпрограммам «Автомобильные дороги» и «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002—2010 годы)» соответственно на 27,3 млрд. рублей (36%) и 8,5 млрд. рублей (78%) и президентской программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».
Положительное значение для экономического роста будет иметь наращивание масштабов деятельности институтов развития — Российского банка развития, Росэксимбанка, Росагробанка, институтов поддержки лизинга отечественной техники и ипотечного кредитования жилищного строительства, а также увеличение объема государственных гарантий, выдаваемых под привлечение инвестиционных и экспортных кредитов. При этом, однако, не все инвестиционные расходы представляются обоснованными. К примеру, выделение 30 млрд. рублей на приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставных капиталов открытых акционерных обществ «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», «Федеральная гидрогенерирующая компания» и «Системный оператор — Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы», выглядит финансовой махинацией по растрате государственных денег для финансовой поддержки крайне неэффективно управляемой кампании.
Вместе с тем наращивание государственных инвестиций, даже с учетом создания инвестиционного фонда в размере 69,7 млрд. рублей и ассигнований на финансирование целевых и инвестиционных программ общим объемом в 2,7% ВВП, лишь отчасти компенсирует депрессивное влияние огромно го профицита бюджета. Последнее усиливается странной по литикой правительства по наращиванию внутреннего госу дарственного долга — без какой-либо нужды правительство планирует размещение на рынке под немалый процент дополнительных финансовых обязательств на сумму 300 млрд. рублей. Тем самым оно на эту же сумму уменьшает инвестиционный потенциал частного сектора.
Правительство пытается обосновать проводимую политику торможения экономического роста утверждениями о необходимости стерилизации избыточной, на его взгляд, денежной массы. И видит основные задачи бюджетной политики в поддержании «соответствия темпов роста непроцентных расходов темпам роста экономики, снижении инфляции, формировании параметров в стабилизационном фонде в целях погашения внешнего долга». Тем самым правительство без каких-либо оснований фиксирует долю непроцентных расходов федерального бюджета на сложившемся уровне около 17%, а консолидированного бюджета — около 33% ВВП.
Заметим, что развитые страны поддерживают уровень расходов бюджетной системы государства в пределах 40— 50% ВВП. Более чем трехкратное увеличение уровня государственных расходов в течение последнего столетия (с 10% ВВП в конце XIX в. до 40—50% (в среднем по ОЭСР) ВВП в конце XX в. и в настоящее время) объясняется резко возросшей ролью НТП в генерировании экономического роста. Вклад новых знаний в прирост ВВП развитых стран оценивается в 80—90%. Этот вклад формируется достижениями науки, внедрением новых технологий, интеллектуально-образовательным потенциалом трудовых ресурсов. Все эти составляющие определяются государственной научно-технической, экономической и социальной политикой. В силу специфической открытости науки и образования для общего пользования и невозможности приватизации знаний государство вынуждено финансировать около половины совокупных расходов на НИОКР и подавляющую часть расходов на образование. Именно за счет этих составляющих (социальных трансфертов, доля которых в ВВП выросла с нуля в начале XX в. до 1/3 в начале XXI в. в развитых странах) произошло многократное увеличение расходов государства. В условиях современного НТП оно вынуждено стать государством развития, приняв на себя
обязательства по финансированию расходов на воспроизвод ство интеллектуально-человеческого потенциала и генериро вание новых знаний.
Сопоставление динамики структуры государственных расходов развитых стран, проведенное директором Института США и Канады РАН С.М. Роговым, убедительно доказало, что увеличение государственных расходов на цели социально-экономического развития является необходимой составляющей современного экономического роста, основанного на НТП. Согласно введенному им разделению функций государства на традиционные (оборона и правопорядок) и современные (развитие интеллектуально-человеческого потенциала), можно видеть, что сегодня в мире через государственные бюджеты тратится в среднем на современные функции 17,8% ВВП, а на традиционные — только 5,3% (см. табл.). Соотношение между этими статьями расходов — 3,4:1. В развитых странах эти показатели составляют 25,0% и 3,9% (соотношение — 6,4:1), в странах с переходной экономикой — 22,1% и 3,8% (соотношение — 5,8:1).
В противовес мировой закономерности увеличения государственных расходов на выполнение современных функций государства, в России государство большую часть расходов тратит на выполнение традиционных функций. В будущем году на эти цели из федерального бюджета будет потрачено 7,4% ВВП, что почти на 25% превышает среднемировой показатель. При этом в три раза меньше (4,7% ВВП) тратится на современные функции. То есть у нас соотношение расходов на традиционные и современные функции составляет 2:1. Как констатирует С.М. Рогов, такая структура бюджета была характерна для государства XVIII—XIX вв.
Как видим, структура расходов российского бюджета разительно отличается от развитых стран. Эта структура сформировалась в постсоветский период под влиянием псевдонаучной доктрины рыночного фундаментализма, отрицающей очевидную закономерность возрастающего значения роли государства в обеспечении социально-экономического развития в условиях современного НТП. Судя по Прогнозу и проекту бюджета страны на 2007 г., доктрина рыночного фундаментализма продолжает лежать в основе экономической политики правительства. Об этом свидетельствуют упомя нутые выше основные задачи бюджетной политики, заявлен ные правительством. Они носят сугубо формальный харак тер и не обосновываются никакими содержательными соображениями. Структура расходной части бюджета уже многие годы формируется под влиянием доминирующего значения обслуживания внешнего долга, остающегося единственным ярко выраженным приоритетом бюджетной политики правительства, мотивирующего изъятие денег из экономики необходимостью борьбы с инфляцией.
Этот тезис нуждается в уточнении. Многочисленные исследования динамических рядов макроэкономических показателей разных стран доказали отсутствие статистически значимой зависимости между приростом количества денег и темпом инфляции, что объясняется сложностью, нелинейностью и неопределенностью этой зависимости. Ее примитивизация российскими денежными властями до уровня простых линейных регрессионных уравнений не имеет экономического смысла и влечет серьезные ошибки в макроэкономическом планировании с крупномасштабными негативными последствиями для экономического роста.
Об объективной нехватке кредитных ресурсов свидетельствует бурный рост кредитов, привлекаемых российскими предприятиями из-за рубежа. Объем внешнего долга нефинансовых предприятий вырос с 76,4 млрд. долларов США на 1 января 2005 г. до 126,0 млрд. долларов США на 1 января 2006 г. Кредитные организации также наращивали заимствования в иностранной валюте (прирост за год — 17,7 млрд. рублей). Таким образом, на искусственное ограничение прироста денежной массы платежеспособные российские предприятия реагируют наращиванием займов за рубежом, что подрывает устойчивость российской денежной системы, сдерживает развитие банковской системы и ведет к неоправданному удорожанию кредитных ресурсов и снижению конкурентоспособности национальной экономики.
Во-вторых, инфляция, как известно, имеет многофакторную природу, и ее сведение лишь к одному приросту денежного предложения не выдерживает критики. Если принять последнее равное нулю, то легко показать, что инфляция может генерироваться: изменением скорости обращения денег вследствие изменения инфляционных ожиданий населения или его склонности к сбережениям; применением разнооб разных инструментов связывания свободных денег в инве стиционных целях; динамикой обменного курса национальной валюты и общественным доверием к ней; социальным давлением на рост доходов населения в целях увеличения потребления при неизменном объеме потребительских благ; злоупотреблениями монополистов доминирующим положением на рынке путем завышения цен.
Лишь последний фактор генерирования инфляции находится в прямом ведении правительства. При этом правительство не проявляет ни желания, ни способности его обуздать. Напротив, каждый год оно задает планы роста регулируемых им тарифов на услуги естественных монополий, запуская тем самым спираль инфляции издержек по всем технологическим цепочкам. Даже очевидные крупномасштабные злоупотребления монополистов в топливно-энергетическом и химико-металлургическом комплексах, ежегодно вздувающих цены существенно выше темпа инфляции, не пресекаются правительством.
И в 2007 г. прирост регулируемых тарифов превысит прогнозируемый темп инфляции (6,5—8%). Тариф на электроэнергию для населения вырастет на 13%, цена на газ — на 15%, тарифы на услуги ЖКХ — на 14—15%.
Вместо жесткого пресечения злоупотреблений монопольным положением на рынке правительство предпочитает заниматься не своей ролью «стерилизатора», как ему кажется, избыточной денежной массы, подменяя тем самым Центральный банк. Делается это за счет налогоплательщиков и бюджетополучателей, у которых изымают средства, которые могли бы пойти на увеличение производства и решение критически важных проблем жизнеобеспечения населения. В отсутствие антимонопольной политики злоупотребления монополистов достигли гигантских размеров. Государственная власть смотрит сквозь пальцы на это массовое ограбление потребителей, оправдывая свою бездеятельность рассуждениями о «невидимой руке рынка», которая будто бы сама обеспечит оптимальное распределение ресурсов.
Рынки не только товаров с высокой концентрацией производства и сбыта, но и с тысячами мелких торговцев контролируются монопольными группами, которые часто созда
ются организованной преступностью при попустительстве коррумпированной бюрократии. Характерным примером являются продовольственные рынки крупных городов, цены на которых многократно превышают равновесный уровень, соответствующий условиям свободной конкуренции. При его соблюдении цена продажи товара потребителю редко превышает цену покупки того же товара у производителя более чем в 1,5—2 раза. У нас же потребитель платит за продовольственные товары втридорога — намного больше, чем получает за них производитель. Остальное достается криминальным структурам, монополизировавшим торговлю.
Смысл изъятия правительством денег из экономики заключается в сокращении денежного предложения, которое генерируется Центральным банком путем эмиссии денег под приобретение иностранной валюты в золотовалютные резервы страны. По мнению правительства, это необходимо для того, чтобы избежать инфляционного давления «избыточной» денежной массы путем приведения денежного предложения в соответствие со спросом на деньги. Проблема, однако, заключается в том, что никто не может оценить этот спрос правильным образом. Поэтому, как констатируется в «Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2007 год», «Центральный банк не рассматривает расчетные параметры роста спроса на деньги как жестко заданные интервалы для роста денежной массы и не исключает возможности выхода за эти границы».
С учетом того, что у ЦБ достаточно инструментов регулирования денежного предложения, навязчивое стремление правительства ему помочь путем замораживания денег налогоплательщиков, полученных в результате производства общественно полезных благ, выглядит, по меньшей мере, странным. Тем более что российская экономика остается недомонетизированной: по отношению объема денежной массы к ВВП Россия отстает от развитых стран в 3—5 раз, уступая также по этому показателю многим постсоциалистическим странам. Следствием демонетизации экономики является хронический кризис денежного обращения, выражающийся в острой нехватке кредитных ресурсов для рефинансирования производственной деятельности, дороговизне кредитов, массовых не платежах, что является одним из главных препятствий эко номическому росту. Своей «стерилизационной» политикой правительство лишь усугубляет этот кризис, искусственно снижая обеспеченный уже предложенными на рынок товарами конечный спрос и замедляя тем самым рост производства и доходов населения.
Как официально признают денежные власти, главным фактором инфляции является злоупотребление монополистов, непомерно вздувающих цены. Но вместо того, чтобы выполнять свои обязанности по проведению активной антимонопольной политики, правительство занимается не своим делом, стерилизуя денежное предложение, требуемая величина которого неизвестна даже отвечающему за денежную политику Центробанку. Только платить за эту солидарную некомпетентность, безответственность правительства и ЦБ нашему народу приходится слишком высокую цену. До 1998 г. правительство и ЦБ рука об руку раздували денежную эмиссию под виртуальную пирамиду ГКО, доведя дело до краха финансовой системы государства. Теперь же они общими усилиями изымают обеспеченные товарами деньги из обращения и душат тем самым производственную систему.
Безумие и примитивизм российских денежных властей находятся в разительном противоречии с продуманной денежной политикой развитых стран. Последняя определяется внутренними целями расширенного воспроизводства и социально-экономического развития, опираясь на механизмы рефинансирования кредитования производственной деятельности и государственных расходов.
В противоположность политике российских денежных властей, озабоченных главным образом изъятием денег из экономики, денежные власти развитых стран целенаправленно управляют денежной эмиссией в государственных интересах социально-экономического развития своих стран, направляя ее через государственный бюджет и формируя долгосрочные кредитные ресурсы под прирост государственных обязательств.
В таблице 3 показаны основные каналы формирования ресурсной базы японской иены и доллара США, которые используются соответственно Банком Японии и Федеральной резервной системой (ФРС) США. Денежная база является показателем, фактически отражающим величину всей эмиссии японских иен и американских долларов, имеющих в настоящее время хождение в мире. Почти на 80% Банк Японии формировал ресурсы под бюджетные задачи — об этом свидетельствует величина государственных ценных бумаг, находящихся на балансе Банка Японии, под которые он эмитировал иены.
Таблица 3. Формирование центральными банками денежной базы национальной валюты
| Япония (иена, сентябрь 2002 г.) | США (доллар, октябрь 2002 г.) | |
| Золотовалютные активы | 4% | 7% |
| Бюджетные приоритеты
(инструменты) |
76% | 88% |
| Прочие | 20% | 5% |
Источник: Ершов М. В. Экономический суверенитет России в глобальной экономике. М., 2005.
Аналогичная картина наблюдается в США. По данным ФРС, при величине денежной базы доллара около 700 млрд. долларов (октябрь 2002 г.) на государственные казначейские облигации, находящиеся на балансе Центрального банка США, приходится примерно 600 млрд. долларов.
Поразительный примитивизм политики российских денежных властей, сведших ее к купле-продаже иностранной валюты, особенно очевиден на фоне денежной политики развитых стран, которая исходит из интересов развития национальных экономик. Так, основными целями ФРС США в первую очередь являются поддержание долгосрочного роста денежных агрегатов с учетом потенциала увеличения производства, обеспечение умеренных долгосрочных процентных ставок, рост занятости.
В отличие от развитых стран, активно использующих монополию государства на денежную эмиссию для кредитования экономического роста и финансирования государственных расходов, российские денежные власти отказывают стране и в том и в другом. Выгоду от этого получают экспортеры, пользуясь заниженным курсом рубля для извлечения сверх прибылей от вывоза дешевых природных ресурсов, иностран
ные инвесторы, по дешевке скупающие права собственности на российские объекты, а также финансовые системы США и ЕС, почти бесплатно привлекающие российские валютные резервы для кредитования своего дефицита.
В целом политика правительства оказывает угнетающее действие на экономический рост и является политикой регресса, искусственного ограничения, сдерживания социальноэкономического развития страны.
Пути повышения эффективности бюджетной политики государства
Как уже говорилось выше, правительство недофинансирует социальную сферу и сдерживает развитие экономики, замораживая значительную часть бюджетных доходов в Стабилизационном фонде. Эти средства изымаются из экономики и вывозятся за рубеж, вместо того чтобы работать на цели социально-экономического развития России. Они обесцениваются вследствие инфляции, которая превышает доходность активов, в приобретение которых размещаются средства стабфонда. Только прямые потери вследствие инфляционного обесценения денег, замороженных в Стабфонде, превысили 300 млрд. рублей. Это больше объема ассигнований, выделяемых в будущем году на финансирование национальных проектов (264 млрд. рублей). Полные же потери, как уже отмечалось, достигли 18% ВВП, в том числе в будущем году они составят около 6% ВВП (1,8 трлн. рублей). Это больше, чем все расходы страны на образование, вдвое больше расходов на здравоохранение, втрое больше всех расходов государства на ЖКХ.
Аморальность и безответственность правительства проявляется не только в многократном недофинансировании важных для населения отраслей социальной сферы при наличии значительных замороженных ресурсов. Недофинансируются отдельные критически важные направления, небольшое увеличение ассигнований на которые дает эффект в тысячах спасенных человеческих жизней, предотвращенных пожарах и катастрофах, прорывных технологиях роста производства и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Это касается прежде всего недофинансирования меро приятий по обустройству беспризорных детей, по модерни зации очистных сооружений, по защите лесов, по предоставлению жилья сиротам, по вакцинации населения.
Аморальным и противоправным является игнорирование правительством государственных обязательств по восстановлению дореформенных сбережений граждан, незаконно замороженных и обесцененных государством. Досрочное погашение внешнего долга при отказе погашать долг государства перед российскими гражданами является дискриминацией последних. Отказ решать эту проблему при огромном профиците бюджета, вывозимом за границу, является прямым нарушением конституционного права граждан на законно заработанную ими собственность. Объем средств Стабилизационного фонда, накапливаемый к концу 2007 г., достаточен для выполнения долговых обязательств государства по восстановлению дореформенных сбережений, установленных Федеральным законом «О восстановлении дореформенных сбережений граждан Российской Федерации», подтвержденных решением Конституционного Суда. Отказ правительства от их выполнения в условиях профицита бюджета и погашения внешнего долга, по сути, противоправен.
Исходя из содержательных целей государственной политики социально-экономического развития страны, с учетом международного опыта и состояния отечественного человеческого и научно-производственного потенциала, могут быть обоснованы следующие предложения по изменению проекта федерального бюджета на 2007 г.
Соблюдение продекларированного правительством принципа сбалансированности требует отказа от профицита бюджета. Это позволяет увеличить расходы на 1,5 трлн. рублей. Благодаря соответствующему увеличению конечного спроса произойдет увеличение прироста ВВП на 6%, что при сохранении неизменным прогнозируемого уровня доходов федерального бюджета в ВВП даст дополнительно 418 млрд. рублей доходов. Таким образом, общий прирост расходов федерального бюджета составит около 2 трлн. рублей. Им следует распорядиться следующим образом:
- Распределение этого прироста расходной части бюджета должно исходить из необходимости повышения расходов на цели социально-экономического развития страны до об щепринятого в мире уровня. В том числе расходов на здра воохранение — до 5% ВВП, на образование — до 6% ВВП, на науку — до 2% ВВП. Это означает увеличение расходов на здравоохранение на 783 млрд. рублей (в 2 раза), на образование — на 755 млрд. рублей (в полтора раза), на науку — на 450 млрд. рублей (в 3 раза).
- В рамках этого увеличения расходов должны быть полностью решены наиболее злободневные проблемы: детская беспризорность, эпидемии социально обусловленных болезней, качество питьевой воды, модернизация ЖКХ и др.
- Технологическая структура распределения прироста расходов должна учитывать необходимость повышения заработной платы работников бюджетной сферы не менее чем в 2 раза, исходя из повышения минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума.
- Территориальная структура распределения прироста расходов должна исходить из конституционного принципа равенства граждан и предусматривать универсальные для всей страны нормативы финансирования социальных расходов.
- Накопленные средства Стабилизационного фонда (2,5 трлн. рублей), должны быть вложены в погашение долга государства по дореформенным вкладам и в перспективные инвестиционные проекты, расширяющие «узкие места» российской экономики. Наиболее важные из них:
— модернизация и капитальный ремонт жилищно-коммунального хозяйства (расчетная потребность в средствах — не менее 100 млрд. рублей);
— модернизация и расширение транспортных сетей (дорожное строительство, лизинг новых самолетов отечественного производства, строительство и модернизация трубопроводов, водных путей и пр. — расчетная потребность — не менее 300 млрд. рублей);
— формирование полноценных институтов развития, обеспечивающих долгосрочное кредитование перспективных инвестиционных проектов (РБР, Росэксимбанк, Росагробанк и др.);
— развитие современной информационной инфраструктуры;
— развертывание сети фондов кредитования малого бизнеса;
— создание сети венчурных фондов для финансирования прорывных инновационных проектов.
Существенное увеличение бюджетных расходов должно сопровождаться эффективной антимонопольной политикой, необходимой для пресечения неизбежных попыток монополистов перераспределить в свою пользу прирост конечного спроса. Эта политика должна включать: энергичные действия органов власти по декриминализации товаропроводящих сетей, в особенности продовольственных; кардинальное ужесточение контроля над ценообразованием в естественных монополиях; пресечение картельных сговоров; расширение доступа предприятий к кредитным ресурсам; стимулирование НТП и роста производства товаров конечного спроса; расширение системы гарантирования банковских вкладов.
Реализация этих предложений позволит обеспечить выход экономики страны на траекторию опережающего роста с темпом около 12% прироста ВВП, до 20% прироста оплаты труда, до 25% прироста инвестиций в 2007 г., заметно повысить уровень и качество жизни населения, решить наиболее актуальные социальные проблемы.
Опубликовано в «Российском экономическом
журнале» (2006, № 9—10)
ЭКОНОмИКА ПРИСВОЕНИЯ — ЭТО ТУПИК
Так же, как чиновники делятся на честных и коррумпированных, хозяйственные руководители и предприниматели могут быть разделены на добросовестных и мошенников. К последним относятся так называемые олигархи, под которыми мы понимаем влиятельных и весьма богатых бизнесменов, нажившихся на присвоении чужого — госпредприятий, природных ресурсов, исключительных прав и др. В отличие от нормальных предпринимателей, получающих прибыль от производства общественно полезных благ, олигархи извлекают сверхприбыль из своих монопольных преимуществ — ма нипулирования принятием государственных решений, обла дания правами недропользования, завышения цен и пр. Если предприниматель своей активностью приумножает общественное благо, то олигарх использует свое властно-монопольное положение лишь для перераспределения богатства в свою пользу.
И хотя реформаторы постоянно пытаются «стричь всех под одну гребенку», представляя предпринимательское сословие однородным, для общества вовсе не безразлично, каким способом в экономике образуются доходы. Если их главным источником является повышение эффективности производства под воздействием механизмов добросовестной конкуренции, то экономика развивается нормально, а большие доходы получают те, кто лучше работает. Но если рост личных доходов достигается путем присвоения чужого — будь то умыкание доходов собственного предприятия или банальное завышение цен, — экономика нормально развиваться не будет. Выгодно становится не работать, а воровать, не вкладывать в развитие предприятия, а наживаться на его разграблении.
Именно такая своеобразная «экономика присвоения» сложилась на постсоветском пространстве. В отличие от Китая, одновременно с нами начинавшего переход от административной экономики к рыночной, где формирование рыночных отношений происходило на основе созидательной предпринимательской инициативы в производстве новых общественно полезных благ, у нас они строились на основе перераспределения ранее созданных богатств. Соответственно отличаются и результаты: бурный рост производства в Китае (более чем в 20 раз за два десятилетия реформ) и резкий спад в первое десятилетие реформ во всех бывших советских республиках. Ломать, как говорится, не строить, а растаскивать — не созидать.
Идеология стяжательства — обогащение за счет присвоения чужого — пронизала всю структуру производственных и управленческих отношений на постсоветском пространстве. Вместо права и добросовестной конкуренции рынки регулируются монополиями и организованной преступностью. Вместо строгого исполнения закона бюрократия занимается вымогательством и поборами, укрепляя монопольное положение взяткодателей. Вместо работы в интересах общего блага государственная власть обслуживает олигархов, присваивающих львиную долю национального дохода.
Экономика присвоения, сложившись в середине 90-х го дов, строится на потреблении производственных, человече ских и природных ресурсов страны. По мере ее воспроизводства эти ресурсы сокращаются, а кумулятивный вывоз капитала увеличивается. Целые отрасли экономики превращены в руины, а доходы от их разорения вывезены за рубеж. За каких-то полтора десятилетия Россия потеряла колоссальный производственный потенциал, создававшийся десятилетиями трудом миллионов людей.
Гибель тысяч машиностроительных, сельскохозяйственных, текстильных и других выпускающих готовую продукцию предприятий нельзя объяснить их неконкурентоспособностью. Последняя зависит от менеджмента и государственного регулирования. Благодаря им совсем еще недавно отсталый Китай обошел некогда передовую российскую промышленность, разоренную вандалами-реформаторами. Нет сомнений, что если бы не всплеск мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, сделавший экспорт последних сверхрентабельным, то и добывающая промышленность была бы разорена олигархами. Даже в наиболее процветающей нефтяной промышленности они ухитрились втрое уронить производительность труда, многократно сократили геологоразведку и освоение новых месторождений, свернули программы по защите окружающей среды. Извлечение сверхприбылей в сырьевых отраслях поддерживается за счет огромного запаса прочности минерально-сырьевой базы, накопленного в советское время.
Секрет быстрой деградации постсоветской экономики — отсутствие механизма ответственности руководителей предприятий за результаты их деятельности. Задарма получив контроль над предприятиями в ходе приватизации, новоявленные собственники встали перед дилеммой: выжать сверхприбыли лично для себя сейчас же или вложить все силы в развитие предприятия с неопределенным результатом. Нет ничего удивительного в том, что многие собственники, захватившие контроль над предприятиями не вполне законными способами и без каких-либо планов по их дальнейшему развитию, выбрали путь личной наживы за счет разорения предприятий. В отличие от стран с давно сложившимися рыночными отношениями, в которых отработаны сложные механизмы контроля над менеджерами крупных предприятий со сторо ны акционеров, трудовых коллективов, правоохранительной системы, у нас они были предоставлены сами себе. Вопреки здравому смыслу в государственной политике господствовала догма, что приватизированное предприятие, по определению, должно управляться лучше, чем государственное. Отсутствие механизма ответственности захвативших контроль над предприятиями лиц перед остальными участниками производственных отношений (миноритарными акционерами, трудовыми коллективами, государством) провоцировало их на разграбление предприятий в наиболее агрессивных формах. При этом в самом тяжелом положении оказались наемные работники, лишенные возможностей влиять на принятие управленческих решений и прав на отстаивание своих интересов.
Экономике присвоения соответствует сложившаяся в России структура производственных отношений. Ее характерная черта — сверхвысокая дифференциация доходов вследствие занижения цены труда и чрезвычайно высоких доходов олигархов. Доля оплаты труда в распределении ВВП составляет около 40%, что существенно ниже, чем в развитых странах. На единицу оплаты труда российский работник производит вчетверо больше продукции, чем его европейский коллега. Эксплуатация труда российского рабочего в несколько раз выше, чем в развитых странах, и, по-видимому, является сегодня самой высокой в мире. В то же время доходы российских олигархов, по совместительству руководящих крупными предприятиями, многократно превышают общепринятые в развитых странах стандарты оплаты труда высших менеджеров. Руководители транснациональных корпораций, успешно конкурирующих на самых сложных рынках, получают в разы меньше, чем позволяют себе российские олигархи, наживающиеся на разорении контролируемых ими предприятий.
Сложившаяся в России структура распределения национального дохода соответствует отношениям классового антагонизма, типичным для капитализма XIX в. Она выглядит архаичной и нежизнеспособной на фоне экономики знаний XXI в. с характерными для нее отношениями социального партнерства и сотрудничества. Нет ничего удивительного в том, что Россию покинули сотни тысяч высококвалифицированных специалистов и ученых. Их труд в «экономике присвоения» потерял не только цену, но и смысл.
Экономика присвоения влечет упрощение и примитиви зацию производственных структур. Ориентация на присвое ние доходов предприятий контролирующими их олигархами губительно сказывается прежде всего на сложных видах деятельности, требующих долгосрочного планирования, высокой квалификации и сложной кооперации производства. Максимизация текущей прибыли, изымаемой недобросовестными собственниками из воспроизводственного цикла, достигается путем сокращения последнего за счет отсечения НИОКР и экономии расходов на создание новой техники и освоение новых технологий. Стремление увеличить текущую прибыль ведет и к завышению цен. В результате производство сложных видов продукции оказывается неконкурентоспособным, а предприятия, специализировавшиеся на ее изготовлении, перепрофилируются в ремонтные мастерские или вовсе прекращают существование. Квалифицированный труд становится ненужным, специалисты вынуждены мириться с резким снижением зарплаты или вообще оказываются на улице.
Дегуманизация социальных отношений
Деградация экономики не может не сказаться на состоянии социальной сферы. Ухудшается ее финансирование, безответственная власть отказывается от обеспечения социальных гарантий и выполнения социальных обязательств государства. Гражданам объясняют, что они сами должны заботиться о себе и своих близких. Так логику рыночных отношений интерпретируют пестуемые властью либералы, обосновывающие вопреки рекомендациям науки и практическому опыту развитых стран целесообразность отказа государства от ответственности за уровень жизни своих граждан.
Первой жертвой коррумпированной власти становятся наука и образование. Финансирование науки сокращается более чем на порядок, а ученым предлагают самим зарабатывать деньги, чтобы тешить свое естественнонаучное любопытство. В результате научная среда быстро деградирует, и лучшие ученые вместе со своими научными школами переезжают за рубеж.
Аналогичным образом разрушается система образования. Сокращение спроса на квалифицированных рабочих и
специалистов ведет к деградации системы образования, ко торая теряет системность и глубину. Вместо подготовки кад ров высокой квалификации, способных создавать и использовать сложные технические системы, учебные заведения переходят к оказанию «образовательных услуг», законченным выражением которых является приобретение учащимися диплома. Исчезновение системы трудоустройства молодых специалистов приводит к разрушению связи между обучением и профессиональными требованиями, следствием чего становится резкое падение качества высшего образования. Огромное количество студентов отсиживают занятия, не планируя в дальнейшем работать по полученной специальности. Соответственно, учебные заведения перестают отвечать за качество подготовки своих выпускников, превращаясь в фабрики по предоставлению дипломов.
Наглядным отражением архаичности сложившейся в России структуры производственных отношений является структура расходов государственного бюджета[3].
Структура бюджета нынешнего российского государства заставляет вспомнить хрестоматийную ленинскую характеристику правительства как исполнительного комитета капиталистов. Мы словно провалились в позапрошлый век с его ужасами рабской эксплуатации миллионов людей, духом стяжательства и войной всех против всех. Парадоксальным образом в стране «победившего социализма» произошла мгновенная реставрация самых примитивных форм организации хозяйства, характерных для колониально зависимых стран XIX в. Соответственно им сформировалась и политическая структура общества, в которой общепринятые сегодня в мире демократические процедуры контроля общества над властью замещены декорациями, а выборы народных представителей во власть приобрели ритуальный характер самоназначения выдвиженцев властвующей олигархии.
Сбросившая с себя бремя ответственности перед обществом власть погрязла в коррупции, идя на поводу у олигархов, присвоивших себе основные источники доходов, остающиеся еще в российской экономике. Лишенная какой-либо идеологии, коррумпированная власть способна только имитировать свое служение обществу, паразитируя на нем. В оправдание собственной недееспособности эта власть прибегает к док трине вульгарного либерализма, оправдывающей самоустра нение государства от ответственности за состояние и развитие экономики и общества. В соответствии с этой доктриной к управлению государством привлекаются лица, неспособные принимать обоснованные решения и лишь имитирующие работу на госслужбе. Безответственная власть нуждается в невежественных и недееспособных руководителях.
Ярким проявлением невежества и недееспособности нынешней власти стало изъятие из расходной части федерального бюджета и замораживание в Стабилизационном фонде доходов от экспорта углеводородов. Российские денежные власти ухитрились превратить эмиссию денег из механизма стимулирования экономической активности в ее тормоз. Несмотря на благоприятную конъюнктуру и присвоение российской экономике инвестиционного рейтинга, объем производственных инвестиций остается на уровне, втрое меньшем необходимого для простого воспроизводства. Да и как ему подняться, если увеличение спроса на деньги жестко ограничивается стерилизацией денежного предложения в Стабилизационном фонде.
Примитивизм политики российских денежных властей разительно контрастирует с продуманной денежной политикой развитых стран. Последняя определяется внутренними целями расширенного воспроизводства и социально-экономического развития, опираясь на механизмы рефинансирования кредитования производственной деятельности и государственных расходов.
Российское же правительство уже много лет не может и, по всей видимости, не сможет определить ни приоритетных направлений развития науки и техники, ни создать условия не то что для развития, но даже для сохранения и эффективного использования имеющегося научно-технического потенциала, который быстро разрушается. Вместо принятия реальных мер в этом направлении правительство бесконечно реформирует, точнее, изматывает науку бессмысленными реорганизациями, следствием которых неизменно оказываются сокращение численности ученых и научных организаций, утечка умов за рубеж и ликвидация целых научных школ, пользовавшихся заслуженным авторитетом в мировой науке.
Лучшим способом реализации этого направления могло бы стать преобразование Стабилизационного фонда в Бюджет развития, бездумно упраздненный правительством несколько лет назад. Это позволило бы вдвое увеличить финансирование НИОКР, кардинально поднять уровень инвестиционной активности в наиболее перспективных направлениях НТП, активизировать деятельность институтов развития, развернуть систему государственной поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.
Опубликовано в журнале «Российская Федерация сегодня» (2006, № 1). Воспроизводится с сокращениями
ЖЕЛАЕмОЕ И ДЕйСТВИТЕЛЬНОЕ
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2006 года содержит постановку давно ожидавшихся обществом задач, включая кардинальное повышение уровня государственной поддержки материнства и детства, обеспечение прав граждан России на современное образование, доступную и качественную медицинскую помощь, стимулирование инвестиционной и инновационной активности, достижение высоких темпов экономического роста на современной научно-технологической основе. Меры по многократному увеличению размера детских пособий, обеспечению конвертируемости рубля, повышению обороноспособности страны, объявленные президентом в своем Послании, давно назрели и вполне могли бы быть решены еще два-три года назад.
Как говорится, лучше позже, чем никогда. Впрочем, вопрос о том, будут ли они решены в ближайшее время, остается открытым. Для этого необходимо принять до конца июня ряд законодательных инициатив и существенно изменить как структуру федерального бюджета, так и межбюджетные отношения. Хотя в этом ничего сложного нет, и поставленные президентом задачи в области поддержки материнства и дет-
ства можно было бы решить и при распределении дополнительных доходов федерального бюджета в 2006 г., остаются сомнения в способности правительства это сделать.
Дело в том, что осуществление поставленных в Послании задач невозможно без исправления ошибок, допущенных правительством и парламентским большинством в принятии решений, определяющих социально-экономическую политику государства. В частности, необходимо восстановить обязательства федерального правительства по выплате детских пособий, обеспечению социальных гарантий в сфере здравоохранения и образования, которые были переданы субъектам Российской Федерации без учета необходимых для их выполнения источников финансирования. В соответствии с общемировыми стандартами следует удвоить долю расходов на здравоохранение, образование и науку в структуре консолидированного бюджета государства. Для того чтобы это сделать, необходимо отказаться от экономически необоснованной и социально вредной политики профицита бюджета, преобразовать Стабилизационный фонд в Бюджет развития, прекратить вывоз государственных средств за рубеж. Все это потребует внесения существенных изменений в межбюджетные отношения и в бюджетное законодательство.
В серьезной корректировке нуждается денежно-кредитная политика. Необоснованная чрезмерная стерилизация денежной массы искусственно сужает возможности кредитования роста производства, существенно сдерживает экономический рост, резко снижает конкурентоспособность российской экономики. Необходимо в кратчайший срок наладить механизмы рефинансирования коммерческих банков, кредитующих производственную деятельность, сформировать источники долгосрочного кредита, обеспечить доступность кредита для отечественных товаропроизводителей. Для решения поставленных президентом России задач по обеспечению права граждан на жилище необходимо многократно увеличить объем государственной поддержки ипотечного кредитования.
Переход к полной конвертируемости рубля и его использованию в международных расчетах потребует существенных изменений в валютном регулировании и механизмах денежного предложения. В частности, необходимо перейти к использованию рублей при оплате экспорта российских сырьевых товаров, прекратить номинирование цен и предоставление кре дитов российскими организациями в иностранных валютах, отказаться от привязки денежной эмиссии к приобретению иностранной валюты Центральным банком. Деятельность последнего должна быть направлена на организацию денежного предложения — в соответствии со спросом на деньги на внутреннем рынке и в международных расчетах.
Едва ли ответственные за макроэкономическую политику министры признают допущенные ими ошибки. Ведь тогда придется взять на себя ответственность за двукратное занижение зарплаты работникам бюджетной сферы, многократное ухудшение возможностей наращивания инвестиционной активности, существенное сдерживание экономического роста. Для этого надо иметь не только политическое мужество, но и минимальную квалификацию, которой по-прежнему явно не хватает.
Увы, эти сомнения подтверждает анализ недавно опубликованного Бюджетного послания президента. Опьяненная невиданным притоком нефтедолларов и наслаждающаяся собственной безответственностью после проведения социальной реформы федеральная власть продолжит замораживать и вывозить за рубеж деньги налогоплательщиков, хвастаясь перед всем миром избытком доходов. На фоне миллиона безнадзорных детей, попрошайничающих на улицах российских городов и повальной нищеты простого народа, считающегося согласно Конституции источником власти самой богатой в мире страны, огромный профицит федерального бюджета выглядит весьма странно. Рассуждения министра финансов о том, что триллионы рублей, замораживаемых в Стабилизационном фонде, являются «лишними», вызывают недоумение как у граждан, не понимающих, почему за свой труд они получают зарплату вчетверо ниже работников в Евросоюзе, так и у руководителей предприятий, задыхающихся из-за нехватки оборотных средств в условиях недоступности кредита.
Бюджетное послание президента разочаровало многих, поверивших в разворот государства лицом к обществу после его же Послания Федеральному Собранию. «Проводимая бюджетная политика в целом соответствует стратегическим целям экономического развития Российской Федерации» — так оценил глава государства итоги бюджетной политики за последний год.
С этим можно согласиться лишь при условии, что главной стратегической целью Российского государства является погашение и обслуживание внешнего долга, платежи по которому составили львиную долю бюджетных расходов. Что касается экономического развития, то вклад бюджетной политики государства составил в прошлом году минус 6% ВВП — вследствие искусственного сжатия конечного спроса путем замораживания налоговых поступлений в Стабилизационном фонде. А недофинансирование расходов на обеспечение качества жизни российских граждан вдвое ниже среднемирового и минимально допустимого по стандартам современного государства уровня. На самом деле проводимая бюджетная политика мешает экономическому росту и снижает объективные возможности повышения качества жизни граждан.
Президент констатирует, что «мероприятия, предусмотренные приоритетными национальными проектами, в целом обеспечены необходимым бюджетным финансированием» и «увеличены в реальном выражении размеры оплаты труда работников организаций бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пенсий и ряда пособий в связи с материнством и воспитанием детей». Но от него, по-видимому, скрывают, что эти «приоритетные национальные проекты» по сути не являются ни приоритетными, ни проектами. В реальности они представляют собой не более чем группировку обычных бюджетных мероприятий по соответствующим тематическим направлениям с весьма скромным финансированием. Достаточно сказать, что при всех громких фразах о приоритетности образования и здравоохранения удельный вес расходов на эти цели в России остается вдвое ниже среднемирового, включая слаборазвитые страны Африки. Даже в странах Балтии удельные расходы государств на эти цели более чем вдвое выше российских. На этом фоне «национальные проекты» выглядят не более чем рекламной акцией. Судя по всему, таковыми они останутся и в будущем году. Только для большего рекламного эффекта они будут раздуты за счет учета средств на соответствующие цели, выделяемые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. Нет сомнения в том, что уполномоченные за реализацию «национальных проектов» руководители правительства отрапортуют о многократном увеличении ассигнований на их реализацию за счет приписки средств, выде ляемых из бюджетов субъектов Федерации.
Президент России укоряет правительство в том, что «подготовка законопроектов, направленных на расширение самостоятельности организаций социально-культурной сферы, и переход к нормативно-подушевому финансированию оказания государственных и муниципальных услуг затянулись». Вряд ли он знает о том, какие именно нормативы планируется установить для финансирования образовательных и медицинских услуг. Исходя из планируемых расходов на образование и здравоохранение, нетрудно посчитать, что для подавляющего большинства школ и больниц денег, выделяемых по нормативно-подушевому принципу, явно не хватит для обеспечения качественной и доступной для всех медицинской помощи и должного уровня образования. Требуемый президентом переход к одноканальному финансированию учреждений социальной сферы на практике будет означать существенное сужение возможностей их финансирования.
Собственно, «расширение самостоятельности организаций социально-культурной сферы» для того и затевается, чтобы заставить поликлиники и школы самим зарабатывать деньги путем предоставления платных услуг. Возможно, президент не знает, что смысл проводимой от его имени социальной реформы заключается в коммерциализации социальной сферы. При этом переход к нормативно-подушевому финансированию для большинства поликлиник и школ будет означать фактическое банкротство. В частности, малокомплектным сельским школам придется либо закрыться, либо сдать половину своей площади в аренду торговым предприятиям.
Если президент действительно настоит на том, чтобы правительство отказалось от сметного принципа финансирования учреждений социальной сферы, то большая их часть вынуждена будет перейти на коммерческие принципы оказания медицинских и образовательных услуг. Соответственно и «реструктуризация сложившейся бюджетной сети», которую президент требует ускорить, быстро пойдет по пути приватизации медицинских и образовательных учреждений как объектов недвижимости. Едва ли это будет способствовать повышению качества и доступности образования и здравоохранения.
О том, что президент дезинформирован, убедительно свидетельствует такой тезис Бюджетного послания: «проведен-
ная реформа системы натуральных льгот позволила повысить эффективность социальной поддержки населения. Бюджетные средства на эти цели предусматриваются в необходимых объемах».
Во-первых, в результате монетизации льгот эффективность социальной поддержки населения снизилась. Средств стали выделять на эти цели на 200 миллиардов рублей больше, а недовольство населения усилилось. Это произошло изза коммерциализации системы социальной помощи, вследствие чего большая часть выделяемых на ее предоставление средств до нуждающихся людей не доходит и оседает в карманах посредников. К примеру, целевым образом была реализована лишь половина денег, выделенных на приобретение лекарств для инвалидов.
Во-вторых, средств, выделяемых на социальную поддержку населения, в большинстве регионов не просто не хватает. Их не хватает катастрофически. За исключением Москвы и Западной Сибири, у субъектов Федерации нет средств на финансирование социальных обязательств, сброшенных на них федеральным центром под видом монетизации льгот. В свете острого недофинансирования образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы едва ли можно говорить, что «сбалансированность региональных бюджетов улучшилась». Столь же неубедительно выглядят тезисы бюджетного послания относительно «успехов» в бюджетной системе муниципальных образований. В действительности муниципальная реформа окончательно лишила их финансовой самостоятельности.
Хотя президент правильно говорит о том, что «бюджетная политика должна формироваться исходя из необходимости улучшения качества жизни населения, создания условий для обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и социальной сфере…», реальных мер по решению этих задач в его Бюджетном послании не предлагается. Напротив, если будут выполнены установки президента о том, что «прирост непроцентных расходов федерального бюджета необходимо осуществлять темпами, адекватными темпам роста экономики», и что «должна быть продолжена политика аккумулирования «конъюнктурных» доходов бюджета в Стабилизационном фонде», то о выполнении этих задач можно на десятилетие забыть. В этом случае для достижения сред немирового уровня финансирования образования и здравоохранения России потребуется пару десятилетий, а среднеевропейского — пару столетий. Между тем у Российского государства есть реальная возможность сделать это в течение двух лет, используя соответствующим образом сверхприбыли от экспорта нефти и газа.
Весь профицит федерального бюджета образуется только потому, что правительство отказалось в результате «социальной реформы» от финансирования народного образования, здравоохранения, льгот для ветеранов труда, а также от нормативов финансирования науки, культуры и образования. Если бы эти средства были использованы для выполнения ранее установленных законом социальных обязательств или хотя бы для достижения среднемировых нормативов финансирования социальной сферы, то никакого профицита не было бы и в помине. Соответственно, не было бы и излишков денег, замораживаемых правительством в Стабилизационном фонде. Говорить о фонде будущих поколений в условиях, когда более миллиона безнадзорных детей попрошайничают на улицах, по меньшей мере цинично и аморально. Если у рождающегося сегодня в России ребенка вероятность получить хорошее образование и хорошо оплачиваемую работу не превышает одной трети, то о каких будущих поколениях можно говорить?
По-видимому, у президента не хватило времени на то, чтобы привести Бюджетное послание в соответствие с им же установленными в Послании Федеральному Собранию задачами. За исключением общей фразы о том, что «необходимые для их реализации средства должны быть учтены при формировании федерального бюджета на 2007 год и последующие годы», каких-либо конкретных мер по их достижению президентом не устанавливается.
Между тем решение этих задач требует пересмотра межбюджетных отношений и исправления ранее допущенных федеральной властью ошибок. В частности, необходимо восстановить обязательства федерального правительства по выплате детских пособий, обеспечению социальных гарантий в сфере здравоохранения и образования, которые были переданы субъектам Российской Федерации без учета необходимых для их выполнения источников финансирования. В соответствии с общемировыми стандартами следует удвоить долю расходов на здравоохранение, образование и науку в структуре консолидированного бюджета государства. Для того чтобы это сделать, необходимо отказаться от экономически необоснованной и социально вредной политики профицита бюджета, преобразовать Стабилизационный фонд в Бюджет развития, прекратить вывоз государственных средств за рубеж. Все это потребует внесения существенных изменений в межбюджетные отношения и в бюджетное законодательство. Но вместо этого в Бюджетном послании говорится о создании резервного фонда в ситуации, когда российская финансово-денежная система и без того перерезервирована многократно. На один рубль, работающий в экономике, два рубля заморожено в резервах (для сравнения, в США на один доллар резервов приходится 25 долларов в экономическом обороте). Куда больше? Сколько мы должны еще оторвать от наших детей денег, чтобы поддержать американский доллар?
К сожалению, основные положения президентского Послания Федеральному Собранию могут остаться «разговором в пользу бедных». В Бюджетном послании нет конкретных установок о повышении доходов граждан. Но зато есть установки о том, что «в кратчайшие сроки следует законодательно урегулировать вопрос о снижении выкупной цены земельных участков под объектами, находящимися в частной собственности». И это на фоне более чем десятикратного повышения платы на землю для дачников и выкупа бывшей государственной собственности у олигархов по тысячекратно повышенным ценам.
Следует отметить, что в отношении предпринимательской активности Бюджетное послание более конкретно. Объявленные в нем меры давно предлагались деловыми кругами. Решения президента о дифференциации НДПИ, ускорении амортизации, налоговом контроле над трансфертным ценообразованием, безусловно, будут поддержаны и окажут позитивное влияние на экономический рост. Но в целом макроэкономические последствия продолжения нынешней налогово-бюджетной политики будут отрицательными. Замораживание огромных средств в Стабилизационном фонде и их вывоз за рубеж обойдутся России в три триллиона рублей потерянных для
социальной сферы и для экономического развития средств. Возможности выхода на траекторию быстрого экономического роста и достижения стандартов современного социального государства вновь будут упущены…
Все это весьма печально, если учесть, что все задачи поддержки российских семей, поставленные президентом в Послании Федеральному Собранию, могли бы быть выполнены уже в текущем году. Средства и деньги для этого у государства есть. Но, по-видимому, нет желания у министров экономики, финансов и социальной сферы, готовивших бюджетное послание и ориентированных не на повышение качества жизни, а на вывоз денег из страны.
В тексте использованы материалы, опубликованные в газете «Россiя» 8 июня 2006 г. и на сайте www.glazev.ru 14 июня 2006 г.
ЧЕГО ДОБИЛАСЬ И ЧТО УПУСТИЛА
РОССИЯ НА ВСТРЕЧЕ «БОЛЬШОй ВОСЬмЕРКИ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Встреча руководителей стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, впервые прошедшая под председательством президента России, вызвала большие ожидания, спровоцированные ажиотажем прокремлевских СМИ. После опубликования принятых на ней документов можно подвести итоги.
Смысл «семерки»
Прежде всего не нужно преувеличивать значение этих встреч. Не все ведущие страны мира являются их участниками. Китай, Индия, Бразилия, занимающие соответственно 2-е, 4-е и 9-е места в мире по объемам производства и 1-е, 2-е и 5-е — по численности населения, не являются членами «восьмерки». Она не имеет статуса международной организации, и принимаемые на ее заседаниях решения не обязательны для исполнения. Скорее, это нечто вроде клуба руководителей ведущих государств НАТО с участием Японии, созданного США в разгар холодной войны для навязывания их участникам американской валютно-финансовой и торгово-экономической политики. Этой задачей определялся и подбор странчленов, обладавших свободно конвертируемыми валютами и имевших влияние на мировой рынок капитала. Не случайно традиционно подготовкой заседаний «семерки» всегда занимались министры финансов — вопросы согласования валютно-финансовой политики были в центре внимания «семерки», вырабатывавшей по ним консенсус для удержания своего доминирующего положения на мировом рынке капитала.
Приглашение России к участию в заседаниях «семерки» было своеобразным поощрением российского руководства за согласие взять на себя погашение советского внешнего долга. 140 млрд. долларов на дороге не валяются, и отказ бывших республик Союза от этих обязательств мог вызвать серьезную дестабилизацию всей мировой валютно-финансовой системы. Кроме того, Россия стала наследницей советских активов, включавших 120 млрд. долларов кредитов, выданных СССР развивающимся странам. Втягивая российское руководство в обсуждение валютно-финансовых вопросов в выгодном для «семерки» формате, США, Германия и другие государства — кредиторы СССР получали возможность легко убеждать некомпетентного и панически боявшегося международных санкций Ельцина в принятии выгодных им решений. Так, им удалось убедить Ельцина в крайне невыгодной для России схеме реструктуризации задолженности СССР, согласно которой долги уже несуществующей державы с грабительскими процентами были повешены на Россию, хотя Польше незадолго до этого внешний долг был наполовину списан. Затем Ельцина уговорили втянуть Россию в Парижский клуб кредиторов, платой за вход в который стало списание около 60 млрд. долларов кредитов, выданных СССР развивающимся странам.
Санкт-петербургская капитуляция в энергетике Сегодня, когда Россия полностью расплатилась по долгам СССР и согласилась под давлением своих партнеров по «восьмерке» списать выданные СССР кредиты слаборазвитым странам и Ираку, предмет обсуждений с ее участием оказался под вопросом. Может быть, поэтому российским президентом была выдвинута для обсуждения тема энергетической безопасности, в которой Россия могла сказать свое веское слово. Для западных партнеров это было предложение, от которого они в ситуации нарастающего энергетического кризиса не могли отказаться. Тем более что до последнего времени российское руководство избегало дискуссий на эту тему, не желая брать на себя какие-либо обязательства и заматывая ратификацию «Энергетической хартии». Что же мы получили в результате обсуждения этой темы на встрече «восьмерки» в Санкт-Петербурге?
За частоколом общих фраз о глобальной значимости устойчивого энергоснабжения можно найти положения, накладывающие на участников «восьмерки» вполне определенные обязательства. Главы государств «восьмерки», в частности, обязались создавать и поддерживать условия для привлечения крупных инвестиций в энергетический сектор «за счет формирования конкурентных, открытых, справедливых и прозрачных рынков». Тема «повышения прозрачности, предсказуемости и стабильности глобальных энергетических рынков» проходит рефреном по всему тексту санкт-петербургского плана действий по глобальной энергетической безопасности. Поскольку в качестве главных проблем обеспечения глобальной экономической безопасности в документе названы высокие и неустойчивые цены на нефть, возрастающий спрос на энергоресурсы и растущая зависимость многих стран от импорта энергоносителей, то логично предположить, что решать эти проблемы планируется за счет стран — экспортеров энергоресурсов. Действительно, чуть ниже содержится ключевой тезис: «Для повышения эффективности производства и потребления энергии в глобальном масштабе особенно важно, чтобы компании из стран — производителей и потребителей энергоресурсов имели возможность на взаимовыгодной основе инвестировать и приобретать энергетические активы в области разведки и добычи, переработки и сбыта в других странах».
Таким образом, российское руководство обязалось предоставить открытый доступ иностранных компаний к российским месторождениям энергетических ресурсов. Об этом
же свидетельствует тезис о соблюдении принципов «Энергетической хартии». Возникает вопрос, что Россия могла бы получить от партнеров по «восьмерке» в обмен на гарантии устойчивого энергоснабжения по невысоким стабильным ценам, да еще с беспрепятственным доступом к российскому топливно-энергетическому комплексу?
Самое существенное, что они могли бы сделать в наших интересах, — признать рубль в качестве одной из мировых валют наряду с долларом, евро и иеной. Для начала согласиться с нашим предложением торговать энергоносителями за рубли, приобретать нашу нефть на российской бирже, рекомендовать своим Центробанкам создать благоприятные условия для работы коммерческих банков с российской валютой. У России есть для такого предложения веские аргументы — в ситуации нарастающей нестабильности валютного рынка мы не можем принимать на себя валютные риски, связанные с галопирующим обесценением доллара, в котором до сих пор номинируется большинство торговых сделок с энергоносителями. В обмен на наше обязательство снабжать Запад энергоносителями по стабильным ценам было бы вполне уместно выставить требование покупать эти энергоносители за российскую валюту.
Как ни странно, тема использования рубля в международных расчетах не была поднята на заседании «восьмерки». Хотя именно валютно-финансовые вопросы традиционно находятся в центре обсуждения этого клуба. Почему российское руководство не использовало весьма благоприятную возможность продвинуть решение этой задачи, поставленной в последнем Послании президента Федеральному Собранию, сказать трудно. Ведь в конечном счете вопрос признания рубля в качестве международной валюты будет решаться денежными властями наших партнеров по «восьмерке», руководители которых готовили эту встречу. Лучшего места для этой инициативы, как говорится, не придумаешь.
Робость российского руководства в этом судьбоносном для страны вопросе объясняется, по-видимому, недостаточной компетентностью председателя Центрального банка и министра финансов. Они привыкли полагаться на догмы «Вашингтонского консенсуса» — примитивной методики макроэкономической политики, разработанной МВФ для развивающихся стран в неоколониальном духе. Эта методика подразумевает отказ этих стран от самостоятельной денежно-кредитной политики, привязку национальной валюты к доллару и свободный вывоз национального капитала за рубеж для инвестирования в долларовые ценные бумаги. Едва ли малообразованные и поклоняющиеся догмам «Вашингтонского консенсуса» руководители денежных властей решатся на какие-либо серьезные действия по приданию рублю статуса международной валюты без согласования с МВФ, которого, разумеется, не последует. Указание президента на этот счет они по сути саботировали, ограничившись формальной отменой последних ограничений на конвертируемость рубля, лишь повысив его уязвимость от внешних угроз.
Следование рекомендациям «Вашингтонского консенсуса» ведет к тому, что сверхдоходы от экспорта энергоносителей, которые получает Россия, направляются на поддержку падающего американского доллара. Вместо того чтобы направлять эти средства на цели социально-экономического развития страны, правительство и Банк России вывозят миллиарды долларов за рубеж, кредитуя США и Евросоюз. При сохранении такой политики наше обязательство снабжать эти страны энергоносителями неявно дополняется использованием доходов от экспорта для их же кредитования. Выходит, мы просто дарим в бессрочное пользование наши энергоресурсы партнерам по «восьмерке». Ясно, что они с радостью принимают этот безвозмездный дар с нашей стороны. Поэтому они не скупятся на похвалы российскому министру финансов и председателю Центрального банка, периодически провозглашая их лучшими специалистами в своей области и хлопоча за продолжение их карьеры.
Что еще нужно «туземным мальчикам»? Они счастливы, что Дядя Сэм их гладит по головке. За эту искреннюю радость президентских любимчиков страна расплачивается сотнями миллионов тонн нефти, доходы от экспорта которых направляются на кредитование друзей по «восьмерке». При такой политике с учетом взятых на встрече обязательств беспрепятственного доступа иностранных компаний к российским энергетическим ресурсам нетрудно предвидеть быструю интернационализацию российского топливно-энергетического комплекса и установление над ним внешнего контроля. Мо жет быть, в этом и есть смысл энергетической инициативы российского руководства? Многократное упоминание в тексте этого документа тезиса о необходимости прозрачности, открытости и конкурентности рынка энергоносителей на практике для российского потребителя может означать переход на мировые цены на газ, нефть и электроэнергию. Распоряжение этими товарами, вырабатываемыми из российских природных ресурсов транснациональными корпорациями, окажется за пределами российской юрисдикции, как это уже произошло с углеводородами Сахалинского шельфа.
Перевод экспорта российских энергоносителей на рубли разорвал бы этот порочный круг макроэкономического идиотизма, влекущего неоколониальную эксплуатацию российских природных ресурсов. Но, к сожалению, шанс договориться об этом был упущен. Энергетический дебют российского президента в петербургской партии завершился финансовым «детским матом» российской стороне из-за слабости ее ключевых фигур, подыгравших противнику. Санкт-петербургская дипломатическая партия обернулась безоговорочной капитуляцией России перед требованиями зарубежных партнеров по открытию российского энергетического рынка. Это тем более обидно, что российское руководство само инициировало данную тему, как говорится, напросилось… Но не подготовилось. Горбачевско-ельцинская традиция односторонних уступок Западу была продолжена. Россия отказалась от главного оставшегося у нее козыря — независимой энергетической политики на мировом рынке, — ничего не получив взамен.
Другие упущенные возможности
Наибольший интерес из гуманитарных и политических вопросов, обсужденных на «восьмерке», представляют заявления по образованию и по борьбе с инфекционными болезнями. К сожалению, и в этих весьма важных вопросах глобального социально-экономического развития российское руководство даже не попыталось «застолбить» какие-либо полезные для России конкретные обязательства.
Между тем в каждом из этих направлений России есть что предложить. К примеру, для борьбы с наиболее распространенной вирусной болезнью — гриппом, включая его «пти
чьи модификации», — российскими учеными создана уникальная вакцина на основе интерферона, весьма эффективная и абсолютно безопасная, в том числе для грудных детей и беременных женщин. Но вместо того чтобы рекомендовать ее к всеобщему применению, Всемирная организация здравоохранения ее в упор не видит, продвигая на мировой рынок продукцию западных транснациональных корпораций. Можно было бы зафиксировать на уровне глав государств «восьмерки» понимание недопустимости дискриминации российских лекарственных препаратов и добиться в заявлении указания принципа конкурсности и открытости при закупках вакцин для населения развивающихся стран, не поручая эту деликатную миссию ангажированным международным организациям.
В тексте же заявления сказано: «Мы признаем и ценим ведущую роль ВОЗ, ФАО и ВОЗЖ в глобальных усилиях по противодействию высокопатогенному гриппу птиц и в содействии странам в подготовке к потенциальной пандемии гриппа. Мы продолжим оказывать всемерную поддержку их усилиям, а также усилиям таких международных финансовых институтов, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Международный валютный фонд». Главы государств также обязались содействовать «наращиванию производственных мощностей и созданию запасов антивирусных препаратов, расширить взаимодействие с фармацевтическими компаниями с целью изучения возможностей по расширению производства вакцин и стимулирования разработок следующего поколения вакцин против гриппа».
Возникает вопрос: как смогут поучаствовать в этой весьма масштабной деятельности российские научные и производственные организации? До сих пор она была полностью монополизирована крупными западными ТНК, подчинившими своему влиянию соответствующие международные организации и фонды. Хочется надеяться, что в этом сможет помочь реализация одобренного на встрече предложения Российской Федерации «о создании на ее территории Сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу для стран Евразии и Центральной Азии», если он не продолжит линию на лоббирование инте ресов западных компаний. Может быть, около 400 млн. дол ларов и списание многомиллиардных долгов слаборазвитых стран, выделяемых Россией под реализацию принятых обязательств по борьбе с инфекционными болезнями, хотя бы частично будут освоены российскими фармацевтическими и медицинскими организациями.
В декларации «Образование для инновационных обществ в XXI веке» содержится немало абсолютно правильных положений, которые, однако, Российское государство до сих пор игнорировало. В отличие от других стран «восьмерки», в которых на финансирование образования выделяется от 7 до 14% ВВП, в России за годы реформ произошло резкое сокращение расходов на образование — до 3,5% ВВП, повлекшее за собой его частичную коммерциализацию и существенное ухудшение качества и доступности. Впервые после нескольких десятилетий сплошной грамотности населения появились дети, не посещающие школу.
В то же время, несмотря на очевидную деградацию российского образовательного потенциала, он сохраняет конкурентоспособность, которая, однако, не может быть реализована на глобальном рынке образовательных услуг без международного признания российских дипломов. По этой проблеме в декларации упоминается ни к чему не обязывающая формулировка: «способствовать более глубокому пониманию зарубежных систем квалификаций и результатов обучения». Хотя этот вопрос находится в ведении соответствующих образовательных ведомств, и главы государств могли бы просто принять решение о взаимном признании дипломов и квалификационных свидетельств хотя бы в рамках «восьмерки». Они же договорились лишь «обмениваться информацией о квалификационных системах в наших странах для улучшения понимания различной национальной практики и традиций в сфере образования». Исходя из этого, не приходится сомневаться, что создание «глобальной образовательной среды, в которой высокие квалификации и инновации сочетались бы с широкой доступностью» будет основано на западных стандартах, к которым российской образовательной системе придется долго приспосабливаться. Это несоответствие существенно затруднит реализацию конкурентных преимуществ наших учебных заведений на мировом рынке образовательных услуг.
Что Россия могла бы предложить «семерке»?
В свете глобального характера обсуждавшихся в СанктПетербурге гуманитарных проблем развития и безопасности человечества, включая глобальную профилактику инфекционных болезней, создание доступной для каждого жителя планеты системы образования, преодоление последствий природных и рукотворных катастроф, уместно было бы рассмотреть возможные механизмы адекватного финансирования решения поставленных задач. В экономической науке давно обсуждается целесообразность введения глобального налога на валютные спекуляции, средства от которого могли бы быть использованы на решение общепланетарных проблем гуманитарного и экологического характера. С экономической точки зрения введение такого налога на уровне 0,01 от суммы совершаемых валютообменных операций не выглядит слишком обременительным для внешней торговли. В то же время он будет обременять атаки валютных спекулянтов, дестабилизирующие мировую валютно-финансовую систему. Таким образом, введение этого налога дало бы немалые средства (более полутриллиона долларов в год) и в то же время способствовало бы стабилизации мировой экономики.
В России некоторое время назад действовал налог на валютообменные операции, при этом не было выявлено никаких негативных последствий его применения. Он был отменен по инициативе министра финансов под давлением МВФ как не соответствующий вульгарной доктрине «Вашингтонского консенсуса». Разумеется, американцы не заинтересованы в его введении, так как эксплуатируемая ими долларовая финансовая пирамида поддерживается всевозрастающей лавиной валютных спекуляций, налогообложение которых будет означать соответствующее уменьшение присваиваемого США эмиссионного дохода. Монополия ФРС США на эмиссию мировой резервной валюты позволяет американскому государству финансировать все свои внешние обязательства за счет «печатного станка», что делает их номинально главным донором осуществления глобальных решений, расплачиваться за которые реально приходится всем другим странам, ис пользующим доллар в качестве резервной валюты.
Для России, являющейся в настоящее время ведущим ре альным донором мировой финансовой системы, вложившей (вопреки собственным национальным интересам) в поддержание американской валюты более 600 млрд. долларов вывезенного и размещенного в долларовых активах капитала, вполне уместно было бы поставить вопрос о новой справедливой архитектуре мировой финансовой системы, элементом которой мог бы стать глобальный налог на валютные спекуляции. Но эта, пожалуй, самая актуальная проблема мировой экономики, по которой «восьмерка» могла бы принять фундаментальные решения, даже не была поднята. Понятно, что постановка этого вопроса Россией, недавно приглашенной в качестве полноправного участника этого клуба глав ведущих государств, может показаться нескромной. Но больше поставить этот вопрос просто некому — все остальные государства «восьмерки» получают свою долю пирога от эмиссии мировых резервных валют и будут стричь купоны с глобальной финансовой пирамиды вплоть до ее неизбежного краха.
К сожалению, российское руководство еще не избавилось от робости, обусловленной униженным положением страны в предшествующий период. Несмотря на кардинальное улучшение положения России в мировой финансовой системе, руководители наших денежных властей продолжают играть роль «туземных мальчиков» при МВФ, направляя сверхприбыли от экспорта энергоносителей на поддержку долларовой финансовой пирамиды в ущерб национальным интересам страны. Вследствие этого Петербургская встреча не стала прорывом в признании России равноправным партнером других государств «восьмерки».
Это не означает, конечно, что встреча «восьмерки» в Питере была бесполезной для России. Хотя она выступала скорее как ведомый, чем ведущий ее участник, российская инициатива была весьма заметной и направлявшей дискуссию в правильном направлении. Само расширение тематики вопросов, обсуждаемых «восьмеркой», сделанное по инициативе российского президента, — важный конструктивный шаг в повышении созидательной роли нашей страны в мире. Правильность принятых деклараций, их соответствие интересам всего человечества также не вызывают сомнений. По ряду вопросов, связанных с глобальным использованием ядерных технологий и обеспечением безопасности человечества от терроризма, про слеживается ведущая роль России, так же, как и соответствие принятых деклараций российским интересам. Хотелось бы, чтобы эта позитивная тенденция повышения авторитета и роли России в современном мире была продолжена на последующих встречах «восьмерки» в более конкретном и наступательном ключе.
Опубликовано в газете «Московские новости» 18 августа 2006 г.
УмЕЕм ЛИ мЫ ТОРГОВАТЬ?
Внешняя торговля только на первый взгляд кажется чем-то далеким от простого человека. На самом деле от нее многое зависит в жизни всех нас. Немало стран именно в этой сфере «делают» основную часть своего ВВП. В их числе и Россия, которой всегда было чем торговать. Но грамотно ли мы торгуем? Более десяти лет назад наше государство отказалось от монополии внешней торговли. Торговать разрешили всем и каждому. Способствует ли это экономическому росту и благосостоянию нации?
Об этом главный редактор журнала «Российская Федерация сегодня» Юрий Хренов беседует с депутатом Государственной думы, доктором экономических наук, членом-корреспондентом РАН, бывшим министром внешнеэкономических связей России, лидером движения «За достойную жизнь» Сергеем Глазьевым.
Юрий Хренов. Первое, о чем хочу вас спросить, Сергей Юрьевич, есть ли сегодня у нашей страны внятная, обеспечивающая национальные интересы внешнеторговая политика? Мы эффективно торгуем?
Сергей Глазьев. Фактически у нашей страны сейчас такой политики нет. Внешняя торговля развивается хаотично. Каждое предприятие пытается продвинуть товар на свой страх и риск, а государство в лице правительства не занимается ни поддержкой отечественного производителя, ни защитой внут реннего рынка от недобросовестных конкурентов из-за рубе жа, не принимает должных мер по обеспечению конкурен тоспособности отечественной продукции, что, в сущности, и входит в понятие «торговая политика». То есть стандартные меры, которые применяются во всех странах для развития национальной экономики и поддержки своих товаропроизводителей, у нас забыты, хотя есть Закон «Об основах государственного регулирования внешней торговли» и Закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», которые предписывают правительству заниматься этими вопросами. Вместо этого все пущено на самотек, и вопросы торговой политики волнуют кабинет министров лишь в той мере, в которой это относится к вопросу о присоединении России к Всемирной торговой организации. В рамках переговоров о вступлении в ВТО правительство собирается взять на себя обязательства, фиксирующие тот пассивный режим во внешней торговле, который у нас сейчас реально существует. Есть риск, что после этого мы лишимся возможности применять субсидии для поддержки отечественного товаропроизводителя.
Единственное, что нам останется применять, — это меры по защите внутреннего рынка, которые разрешены ВТО. Сейчас как раз время поставить все эти вопросы ребром, потому что, присоединяясь к этой всемирной организации в условиях отсутствия внятной внешнеторговой политики, мы теряем возможности для ее обретения в будущем.
Ю. Х. Почему, на ваш взгляд, так происходит?
С. Г. С моей точки зрения, это происходит по двум причинам. Во-первых, правительство исповедует доктрину рыночного фундаментализма, которая избавляет его от ответственности за состояние экономики в силу общей философии подхода: «рынок все сам решит», «кто конкурентоспособен, тот и выживет» и так далее. К этому сводится формула нынешней торгово-экономической политики в головах господина Грефа и других министров, отвечающих за экономический блок. Ю. Х. Это их искреннее заблуждение или лукавство?
С. Г. Это, конечно, и невежество, и лукавство в той мере, в какой за ними не стоит коррупция. Определенные меры во внешней торговле правительство применяет. Но тогда, когда его об этом просят богатые структуры. Например, металлурги добиваются принятия мер по ограничению ввоза дешевой
стали в Россию. При этом они выступают в этом ключе не столько потому, что украинская сталь может разорить наши предприятия, сколько для того, чтобы заставить нашего потребителя получать товар по завышенным ценам, то есть за сохранение монополизма на российском рынке. В итоге одновременно мы видим ограничение импорта дешевой стали и рост цен на продукцию черной металлургии в 1,5—2 раза. То есть в данном случае защитные меры принимаются правительством не столько для того, чтобы оградить наш рынок от недобросовестных конкурентов из-за рубежа, сколько для того, чтобы поддержать незаконную практику злоупотребления монопольным положением российских структур. Там, где есть деньги, правительство охотно идет на принятие соответствующих мер, что явно говорит о коррумпированности госаппарата в сочетании с его некомпетентностью. Это и порождает то состояние недееспособности власти в данной сфере, которое мы наблюдаем.
Ю. Х. Важная часть торговой политики — таможенная политика. Насколько она эффективно сегодня защищает национальные интересы?
С. Г. Ни для кого не секрет, что товары в Россию пропускаются не в соответствии с таможенными тарифами, а по понятиям, установившимся на таможне: столько-то денег за грузовик с импортным барахлом. Поэтому таможенники часто не проверяют, что именно ввозится в страну. За каждый грузовик некоторые коррумпированные чиновники получают мзду и оформляют товар совсем не в той номенклатуре, которая реально проходит через границу. Коррупция, с которой мы сталкиваемся на границе, делает бессмысленным применение таможенного тарифа. Этим пользуются некоторые ультралиберальные господа в правительстве. Их логика такова: товары пропускают за взятку, невзирая на таможенные тарифы, поэтому тарифы надо отменить и отказаться от их использования в качестве инструмента внешнеторговой политики. Как ни странно, эта абсурдная точка зрения, свидетельствующая о полной недееспособности этих членов правительства, реализовалась в поправках к импортному тарифу, которые принимались три года назад. Тогда, накануне очередного раунда переговоров по ВТО, российское правительство без какихлибо внятных причин существенно снизило тарифы и про декларировало свою приверженность идее унификации тарифов, то есть приведение их всех к одной цифре, например, пять процентов на все товары. Это означало бы фактический отказ от использования импортного тарифа в качестве инструмента внешнеторговой политики. С этой идеей Герман Греф выступал в парламенте, пытался убедить президента, и частично ему это удалось. Сегодня в результате таких странных решений Россия берет на себя достаточно жесткие обязательства по свертыванию импортного тарифа.
В свое время я добился принятия поправок в Уголовный кодекс о введении ответственности за контрабанду. Но, к сожалению, хотя тогда мы смогли через Думу ввести довольно жесткие наказания за нарушения обязательств по уплате таможенных пошлин, проблема остается.
Ю. Х. Что касается вступления в ВТО — это будет полезный для России шаг?
С. Г. Я не сторонник политизации подхода к этому вопросу. Он в принципе технический. Есть расхожее мнение, что присоединение России к ВТО будет означать принятие разорительных для тех или иных отраслей российской промышленности обязательств. Но проблема совершенно в другом. Мы теряем рынок, упускаем многие возможности не потому, что берем на себя лишние обязательства, а потому, что у нас не применяются меры, необходимые для поддержания этих отраслей. Проблема присоединения к ВТО упирается в вопрос, какую политику мы хотим проводить. И в зависимости от ответа надо вести переговоры. Если мы хотим проводить политику стимулирования инвестиционной и инновационной активности, то необходимо, принимая на себя требования ВТО, предусмотреть возможности применения определенных инструментов экономической политики.
Например, ВТО прямо не запрещает субсидирование научно-исследовательских разработок, не запрещает активную государственную поддержку экспорта. Но все это нужно делать в соответствующих формах, чтобы не попасть под обвинения в нарушении норм ВТО. Так, по правилам этой организации мы не можем выделять экспортные кредиты из госбюджета. Но можно это делать через экспортно-импортный банк. Мы не можем напрямую из бюджета субсидировать те или иные отрасли промышленности, а также программы, влияю щие на конкурентоспособность нашей продукции. Но мы можем это делать через российские банки развития. Так поступают все страны. Нужно не фетишизировать ВТО, а смотреть на эту организацию и ее правовую базу как на инструмент торгово-экономической политики, которым надо уметь пользоваться для отстаивания наших интересов за рубежом. Надо уметь защищать внутренний рынок, прибегая к механизму ВТО по урегулированию хозяйственных споров, возникающих при продвижении нашей продукции за рубеж. Наша законодательная база вполне позволяет это делать, не входя в конфликт с нормами ВТО.
Наконец, для поддержания конкурентоспособности и стимулирования экономического роста мы можем применять огромное количество инструментов. Это прежде всего меры денежно-кредитной политики, поддержка экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью через банки развития, налоговые стимулы для инвестиций в модернизацию экономики. То есть мы располагаем огромным количеством мер, которые возможно применять, находясь внутри ВТО. Надо это понимать и к этому готовиться. Для нас главная проблема не в том, что ВТО закроет России путь к экономическому развитию и заморозит нынешнюю отсталую технологическую структуру и неэффективную форму участия в мировой экономике. Проблема в том, что наше правительство не занимается вопросами подготовки страны к вступлению в ВТО в тех аспектах, о которых я говорил. И в этом слабость наших чиновников, которые ведут переговоры об условиях присоединения России к ВТО.
Ю. Х. Широкой публике мало известно, кто эти переговорщики, и еще меньше известно, о чем они переговариваются. Может быть, хотя бы для парламента это не является тайной за семью печатями?
С. Г. Условия присоединения России к ВТО примерно мы знаем. Есть ряд спорных вопросов, по которым нет четкой информации, и это нас тревожит. Скажем, вопрос внутренних цен на энергоносители. Ряд российских монополистов в области энергетики с помощью ВТО хотят навязать нам обязательства по повышению цен на электроэнергию, газ и тепло, что совершенно неприемлемо. Ведь это будет колоссальный удар по развитию экономики и уровню жизни населе
ния. Насколько мне известно, требования Евросоюза по этому поводу уже несколько смягчены, но российские лоббисты — РАО ЕЭС, «Газпром» для получения монопольной сверхприбыли продолжают подталкивать наши власти через своих зарубежных партнеров на путь существенного повышения цен на энергоносители.
Другая чувствительная проблема — миграция рабочей силы. Китай и Индия настаивают на либерализации миграционного законодательства, что для нас тоже неприемлемо с учетом нынешней демографической ситуации в стране, и особенно за Уралом. Но тем не менее я знаю, что господин Греф открыто продвигает идею отмены ограничений по импорту рабочей силы, вплоть до образования «чайна-таунов» в крупных российских городах.
Третье неприемлемое условие — присоединение России к добровольному соглашению по торговле авиационной техникой. В таком случае нас заставят снять таможенные пошлины и нетарифные барьеры на пути ввоза самолетов в Россию. На мой взгляд, это условие выходит за рамки обязательных соглашений с ВТО. Но за разъяснениями далеко не надо ходить — Америка и Евросоюз пытаются навязать нам открытие рынка авиатехники, чтобы подавить потенциально мощного конкурента — российский авиапром.
Я думаю, что все эти неприемлемые условия можно обойти и вступить в ВТО, сохранив за собой широкий круг инструментов экономической политики, который нужно просто приспособить к ограничениям, введенным этой организацией. Еще раз подчеркну, что наше правительство этого не делает, а наши переговорщики занимают сугубо оборонительную позицию, то есть они не пытаются отмести все то, что нам навязывают сверх обязательных норм ВТО, и максимально уменьшить уступки, которые мы принимаем по таможенным тарифам. Из этой оборонительной позиции уже все выжато, а наступательной позиции на переговорах по-прежнему нет. Не ставится вопрос об ограничении российского экспорта, молчаливо признается, что действующие препоны сохранятся, не поднимается вопрос о попытках США и некоторых других стран оставить за собой право подвергать дискриминации наш экспорт еще некоторое время после вступления России в ВТО.
В этих вопросах наша позиция остается пассивной, и это есть результат отсутствия стратегии экономического развития. Но это не проблема ВТО, а проблема российского правительства и тех людей, которые в нем отвечают за экономику. У них нет стратегического видения. Уместно вспомнить слова одного древнего философа: «Для корабля, который не знает, куда он плывет, не может быть попутного ветра». Членство в ВТО может быть и попутным ветром и встречным, главное — знать, куда плыть.
Ю. Х. Торговая политика — важная часть международных отношений, в том числе наших отношений с соседями, когда-то входившими в семью советских республик. От одного иностранного коллеги пришлось как-то услышать соображение: неправильно мы ведем себя со странами СНГ и Балтии. Многие их лидеры словом и делом демонстрируют явную неприязнь к нам, а мы, как в старые советские времена, даем им все, без чего этим странам не обойтись, на льготных условиях. Вот Америка в полной мере использует экономические санкции, когда считает, что имеет место нарушение ее интересов. А почему мы так не делаем?
С. Г. Опять-таки потому, что у нас нет ни стратегии экономического развития, ни понимания значения экономических инструментов для достижения целей, которые мы для себя ставим. Главная проблема нынешней власти — отсутствие четкого и ясного целеполагания, понимания того, что мы хотим. В современном весьма агрессивном окружении это порождает чудовищную, системную слабость России на всех направлениях. Страны Балтии, Грузия, Украина, Молдова — яркие тому примеры. Мы сами даем возможность политическим противникам паразитировать на российском национальном богатстве.
Руководители стран Балтии, например, не скрывают своего враждебного отношения к России. Показателен демарш лидеров этих государств, не пожелавших приехать в Москву на празднование Дня Победы. Они ставят знак равенства между эсэсовцами, которые хотели из прибалтов сделать пушечное мясо или белых рабов, и русскими солдатами, освободившими эти народы от фашистского ига и сохранившими им жизнь. Нетрудно представить, что если бы Гитлеру оставили Прибалтику, Красная Армия не стала бы наступать дальше, а остановилась бы в 1944 г. на линии, обозначенной в Пакте Риббентропа — Молотова, и сохранила бы жизнь сотен тысяч наших солдат, погибших при освобождении этих народов, то сегодня не было бы ни эстонского, ни латышского, ни литовского народов. Не было бы там ни одного вуза. А люди, проживающие в этих землях, стали бы рабами для немецких помещиков. В этом у меня нет никаких сомнений. Эти планы достаточно ясно были изложены в выступлениях Гитлера.
Видимо, нынешнее руководство прибалтийских государств имеет какие-то родственные отношения с теми, кто работал на фашистов. И можно было бы дать им соответствующий ответ. В свое время в связи с притеснением русских в Прибалтике я выступал с законодательной инициативой, предлагал принять экономические санкции. Проект такого закона был подготовлен еще в 1994 г. Но тогдашнее руководство страны побоялось принять жесткие меры, так как Козыреву по всем делам надо было спрашивать разрешение американцев, а Ельцин в вопросах внешней политики шел у него на поводу. Они побоялись касаться этого вопроса, и моя законодательная инициатива осталась нереализованной. И некоторые банки стран Балтии превратились в прачечную по отмыванию грязных российских денег; через прибалтийские республики идет перевалка грузов без налогов тех недобросовестных российских предпринимателей, которые используют прибалтийские порты, прибалтийские банки для сокрытия доходов, полученных в России. Это наносит нам колоссальный экономический ущерб.
Вы совершенно правильно ставите вопрос. В интересах нашего народа, нашей экономики мы обязаны защищаться, в том числе от прямых противников, которые вступают в сговор с недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности Российского государства, содействуют крупномасштабным хищениям, уводу многомиллиардных сумм от налогообложения. В результате Россия остается для всего мира крупнейшим донором. В прошлом году нашу страну покинули 30 миллиардов долларов без уплаты всякого налога.
Ю. Х. На виду у всех и такие, парадоксальные на первый взгляд, сюжеты из области нашей торговли. Российские рыбаки встречают массу сложностей, пытаясь сдать улов отечественным рыбоперерабатывающим предприятиям. И тогда они продают его за рубеж. Или валим лес, продаем кругляк, а обратно ввозим мебель, сделанную из этой же древесины…
С. Г. В этой проблеме есть две составляющие. Одна — легальная, другая — нелегальная. Легальная заключается в том, что условия хозяйственной деятельности в рыбной промышленности сегодня фактически выталкивают наших рыбаков из страны, поскольку очень дорого стоит топливо, приходится платить довольно высокие налоги, рыболовецкий промысел нуждается в кредитах, которые невозможно получить. За лов рыбы сегодня надо платить, рыбаки вынуждены покупать квоты. Усилиями господина Грефа и других лиц, отвечающих в правительстве за экономику и финансы, рыбная отрасль поставлена в состояние хронической убыточности. Рыбакам, чтобы свести концы с концами, приходится переходить к нелегальной деятельности. Это вторая составляющая проблемы.
На базе нелегальной деятельности сложилось целое лобби преступных группировок, которые эту деятельность прикрывают и поддерживают на уровне правительственных структур. Например, когда господин Наздратенко, руководя отраслевым комитетом, попытался ввести всеобщий мониторинг рыболовецких судов, ему этого не дали сделать, сняли с должности и отправили, по сути, на почетную пенсию. Никакой технической проблемы, чтобы ловить контрабандистов, нет. На экране компьютера в текущем режиме видно, где какое судно находится. Если оно зашло без разрешения в японский порт, значит, собирается сдавать рыбу без лицензий, без налога, а это чистой воды контрабанда. Но контрабандистов никто не ловит, так как этот нелегальный промысел дает доходы, за счет которых кормятся чиновники, а их покрывают органы власти. Это пример, когда коррупция и некомпетентность идут рука об руку. Некомпетентные Греф и компания обременили наших рыбаков покупкой квот, загнали отрасль в нелегальный промысел, а на базе этого расцвела пышным цветом коррупция.
Ю. Х. Сегодня мало кто не говорит о некомпетентности Грефа и его команды и о вреде, который они наносят нашей стране. Тем не менее он продолжает оставаться на своем посту…
С. Г. Это вопрос не ко мне. Греф не является самостоятельной политической фигурой, так же как Чубайс и некоторые другие одиозные личности в российских властных структурах. Я не раз передавал президенту мнение ученых о тех негативных последствиях, которые вызывает экономическая политика Грефа. Но это осталось пока без внимания.
Ю. Х. В связи со всеми неурядицами в нашей внешней торговле возникает вопрос: а не надо ли снова отдать эту сферу государству, чтобы ограничить корыстные интересы тех, кто этим занимается?
С. Г. Простое решение не всегда самое эффективное. Мы должны понимать, что внешняя торговля очень разнообразна. Есть разные товары, разные рынки, которые требуют большего или меньшего контроля. Например, я не думаю, что есть смысл вводить государственную монополию на импорт женской одежды или экспорт наших автомобилей. Но в то же время мы должны сохранить государственный контроль над экспортом газа, восстановить государственную монополию на экспорт нефти. Это сферы, где происходят наиболее серьезные злоупотребления, там же формируется значительная часть российского платежного баланса и там же образуется наибольшая прибыль. Нам необходимо сохранить госконтроль над экспортом военной техники и вооружения. Эта отрасль сегодня монополизирована, но речь должна идти о модификации перечня товаров двойного назначения, на которые государству следует распространить свою монополию. Должна быть госмонополия на экспорт электроэнергии. Государство должно сохранить контроль над импортом алкоголя, особенно спирта. В свое время мы ввели эмбарго на импорт иностранных спиртосодержащих продуктов, и правильно сделали, так как от их употребления люди умирали десятками тысяч. Мы должны сохранять жесткий контроль соответствия российским стандартам новых товаров, чтобы защитить наших граждан от изделий фальсифицированного качества, вредных для здоровья. Разумное регулирование внешней торговли предполагает разнообразие форм государственного контроля. И его жесткость зависит от того, какие товары и какие рынки мы регулируем.
Те рынки, которые чувствительны с точки зрения национальной безопасности и здоровья нации, должны регулироваться государством жестко, а те рынки, где частный бизнес может самостоятельно действовать, не создавая угроз, могут функционировать в либеральном режиме при условии применения общих норм торговой политики.
Ю. Х. То есть демонополизация внешней торговли в начале 90-х годов сама по себе не была очевидным злом?
С. Г. Не так все однозначно. В ноябре 1991 г. Ельцин подписал указ об отмене монополии внешней торговли, который был очень сырым, непродуманным. Он породил огромные дыры в нашей экономике, через которые на Запад устремилась дешевая российская нефть, а к нам хлынули потоки фальсифицированных товаров, опасных для потребителя и разорительных для страны. Тогда возникла реальная опасность, что внешняя торговля из двигателя экономического роста превратится в черную дыру, куда будут исчезать самые ценные составляющие нашего народного хозяйства. Поэтому, до того как этот указ вступил в силу, нами были приняты меры, чтобы устранить эти дыры. Мы также успели подготовить решение правительства об ограничении экспорта сырьевых товаров (нефти, газа, металлов).
По моей инициативе были введены экспортные пошлины на ряд сырьевых товаров, что позволило изымать в доходную часть бюджета значительную часть природной ренты, которая образовывалась из-за огромной разницы цен на сырье в России и за рубежом. Затем был введен импортный тариф и валютный контроль. Все это делалось в спешке, но эти меры были введены достаточно своевременно, чтобы направить внешнюю торговлю в правильное русло. И в начале 1993 г. отрасль превращалась в мощнейший локомотив экономического роста. Причем роста не за счет вывоза сырья, что ограничивалось квотами и экспортными пошлинами, а за счет экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
В первом полугодии 1993 г. рост экспорта продукции машиностроения пошел на десятки процентов. Внешняя торговля начала работать как реальный механизм экономического роста. Но затем вследствие ошибок Центробанка при регулировании обменного курса рубля эти позитивные процессы затормозились. Фактически трехкратное повышение реального обменного курса рубля в течение года привело к тому, что экспорт продукции машиностроения встал, в страну хлынул поток резко подешевевшего импорта, и конкурентоспособность наших производителей была подорвана. В этом колоссальная вина руководителей Центрального банка. Они повернули российскую внешнюю торговлю вспять, она из локомотива экономического роста превратилась в тормоз.
Сейчас эта ситуация стихийно выправилась, в том числе ценой чудовищных потерь 1998 г. С тех пор удается удерживать курс рубля на более или менее сбалансированном уровне, что помогает сегодня двигаться к более рациональной структуре внешней торговли, хотя она по-прежнему остается тяжелой при доминировании в экспорте сырья, а в импорте — ширпотреба. Если мы будем правильно использовать меры торговой политики, то ситуацию удастся исправить и внешняя торговля может снова стать локомотивом экономического роста.
Опубликовано в журнале «Российская
Федерация сегодня» (2006, № 1)
АЛЬТЕРНАТИВА ВХОЖДЕНИю УКРАИНЫ В ЕЭП — ЭКОНОмИЧЕСКИй КРАХ
— Сегодня многие российские политики в своих заявлениях не скрывают, что Украина постепенно выходит из сферы геополитических интересов России. Вы согласны с подобным мнением?
— Я бы так не стал говорить. Нужно четко разделить вопрос: чего хочет Кремль и что, собственно, нужно России? Это два совершенно разных вопроса. Сегодня Кремль хочет зарабатывать деньги, и он этим занимается очень активно в России и за ее пределами. Так вот, Кремль хочет получать и от Украины больше доходов. Отсюда, например, и стремление «Газпрома» поднять цены на газ для Украины до уровня мировых. Другое дело, чего хочет Россия. Интересы России как государства и интересы Кремля не совпадают. Отсюда и двусмысленность нынешней российской позиции: с одной стороны, Россия вроде бы предлагает Украине войти в ЕЭП, а с другой — повышает до заоблачных цены на газ. Но решение газовой проблемы, которое мы имеем на сегодняшний день, носит временный характер. Пройдет год, и все начнется снова. Но ни Ющенко, ни Путин, к сожалению, в таком контек-
сте этот вопрос и не поставили. Украина должна четко понимать, что единственный способ получить газ по приемлемой для ее промышленности цене — это войти с Россией в ЕЭП и создать Таможенный союз.
— Но еще Леонид Кучма заявлял, что на условиях таможенного союза Украина никогда не войдет в ЕЭП. Тем более на это никогда не согласится Виктор Ющенко…
— То, чего хочет официальный Киев, — это не то, что нужно Украине. Киев сегодня стремится в ЕС и НАТО, но это коренным образом противоречит интересам ключевых отраслей украинской экономики. Не говоря уже об украинских гражданах. Украинские металлурги, например, не заинтересованы во вступлении страны в ЕС, потому что это означает потребление российского газа по европейской цене. Они просто не выдержат конкуренции. Аналогичная ситуация и в химической отрасли. Третья отрасль украинской экономики — АПК — тоже вряд ли может рассчитывать на успех после вступления в ЕС. К тому же значительная часть украинской продукции АПК поставляется сегодня в Россию! Если бы мы были в ЕЭП, то «мясные» и «молочные» конфликты не решались бы путем односторонних переговоров с российскими ведомствами, а обсуждались бы коллегиальными наднациональными органами.
— Но ведь ясно, что подобные наднациональные органы позволят России доминировать в ЕЭП…
— Это миф, клише, картинка, которая навязывается украинскому электорату. Кстати, вступление Украины в ЕС означает еще большее лишение суверенитета, чем формирование Таможенного союза с Россией. Хотя бы потому, что полномочия центральных органов ЕС более масштабны, нежели наднациональных органов, предусмотренных в рамках ЕЭП.
— Как раз последний год официальный Кремль не оченьто и настаивает на участии Украины в ЕЭП. Может быть, потому, что многие представители российского крупного бизнеса сегодня категорически против полноценного интегрирования Украины в тот же таможенный союз?
— Да, в России есть немало влиятельных противников зоны свободной торговли с Украиной. Это те же российские металлурги, которые против присутствия на российском рынке украинского металла, это российские сахарные магнаты, которые не желают конкурировать с украинскими коллегами.
И если ЕЭП не будет создано, поверьте, эти силы, несомнен но, проявят себя, и существующая зона свободной торговли начнет сужаться, пока просто не выродится.
— Какие, на ваш взгляд, сегодня Кремль ставит перед собой политические цели в отношениях с Украиной?
— Политические цели Кремля заключаются сегодня в необходимости спасения своего лица в глазах российской общественности, потому что итоги президентских выборов в Украине вызвали колоссальное разочарование российского общества. Поражение кандидата, ставку на которого открыто делал Кремль, ставится общественностью в упрек российскому руководству. Российское общественное мнение очень чувствительно к вопросам Черноморского флота и Крыма, русского языка, пересечения границ российскими гражданами. Для России, например, крайне важно не допустить превращения государственной границы в барьер между людьми двух родственных государств. К сожалению, субъективный фактор стал играть более существенную роль в наших двусторонних отношениях. Это касается и напряженности в отношениях между президентами, это касается и правительств. К тому же украинская сторона в силу политической неопределенности является очень тяжелым и неудобным переговорщиком. На переговорах по формированию ЕЭП постоянно меняется состав делегаций, часто изменяется позиция украинской стороны. Все это вызывает раздражение в Москве. Ведь если бы не эта двусмысленность Украины, ЕЭП уже было бы сформировано.
— А в чем именно заключается двусмысленность?
— Украина до сих пор не может четко определиться, какие соглашения будет подписывать, а какие — нет. В Москве складывается впечатление, что у переговорщиков из Украины просто нет необходимых полномочий. У них одна «пластинка»: Украина против создания наднациональных органов. Но ведь ЕЭП не может существовать без наднациональных институций. Это нонсенс!
— Хорошо, а Россия согласна идти на уступки в переговорном процессе?
— Да. Насколько я знаю, в Кремле даже после прихода Ющенко к власти долгое время были готовы к тому, что Украина подпишет только часть соглашений. Хотя, с моей точки зрения, такое половинчатое участие в ЕЭП невыгодно самой Украине. Будучи таким второстепенным членом сообщества, Украина не сможет полномасштабно влиять на принимаемые решения. А вот возьми Украина и активно включись в процесс формирования ЕЭП, став одним из его идеологов, она бы могла бы получить серьезные дивиденды. Ведь именно ей это выгодно! Это Украина в основном экспортирует в Россию продукцию машиностроения, а не наоборот. И покупает у нас энергоресурсы!
Ваша страна должна бороться за свои национальные интересы, но не путем выстраивания ложных альтернатив. Лично я считаю, что альтернативой вхождению Украины в ЕЭП и Таможенный союз с Россией является только экономическая катастрофа. Поверьте, больше с Украиной нянчиться никто не будет. Я повторюсь: в России существуют влиятельные силы, которые не хотят видеть Украину в ЕЭП. Поэтому надо четко поставить вопрос, в частности перед российскими переговорщиками, о том, что вхождение в ЕЭП означает, что украинские потребители получают право доступа к российскому газу на тех же условиях, что и российские потребители. Здесь не может быть двух правил ценообразования. Но существует еще и третий вариант. Это тот путь, который все это время использовался Украиной (до прихода Виктора Ющенко): постоянное балансирование между Россией и ЕС. То тут попросили льготы, то там. Но в долгосрочной перспективе этот сценарий тупиковый. Нельзя усидеть на двух стульях, какими бы мягкими они ни были.
— А какой все-таки сценарий соглашений по ЕЭП Россия готова сегодня принять от Украины?
— Тяжело сказать. Понимаете, если Украины не будет в ЕЭП, то все будет гораздо сложнее: зона свободной торговли (ЗСТ) между Россией и Украиной будет, вероятно, демонтирована, поскольку все страны внутри ЕЭП будут иметь общую таможенную границу. То есть Россия должна будет для Украины придумать специальный статус, чтобы Киев, не входя в ЕЭП, смог сохранить ЗСТ со всеми странами СНГ. Теоретически это возможно, но технологически сложно. Да и пойдет ли на это Кремль?
— Вопрос сложный, иногда и российские госчиновники делают явно странные заявления…
— Тот же Герман Греф. Он, в общем-то, ориентируется на США, для него министр торговли США гораздо более важ ный партнер, чем министр экономики Украины. К сожале нию, у нас есть такие министры, поэтому все переговоры по ЕЭП тянет на себе министерство промышленности и энергетики. Минэкономразвития России — тормоз в этом процессе. Да и со стороны Украины тоже часто есть сложности. Не так давно я встречался — в ходе двух дискуссий — с временным поверенным Украины в России г-ном Осовалюком (до назначения Олега Демина в этом качестве исполнял обязанности посла Украины в России. — Ред.).
— И что?
— Я бы сказал, что это очень тяжелый случай нежелания говорить на конкретном языке цифр, фактов…
— Может, он просто не имел права говорить что-либо конкретное?
— Тем не менее на предложение посчитать баланс выгод и потерь, которые Украина получит в ЕС и в ЕЭП, выдвигался аргумент, что еще ни одна страна из ЕС не вышла. Получается, что все там счастливы. Хотя мы сегодня видим серьезное разочарование, в частности, у восточноевропейских стран после интеграции в Евросоюз. К сожалению, внешнеполитическое руководство Украины не умеет считать и слепо верит в мифы, которые само себе придумало.
— На ваш взгляд, как дальше будут развиваться украинско-российские отношения?
— Самый главный вопрос, на который должна найти ответ ваша новая Верховная рада, — будут ли торгово-экономические вопросы выведены за пределы национального суверенитета? Да, вступление в ЕЭП — это тоже частичный отказ от суверенитета. Хотя и в меньшей степени, чем вхождение в ЕЭ с делегированием всех вопросов торгово-экономической политики Брюсселю. Но если Украина хочет сохранить полный национальный суверенитет (а не тот, который декларируется нынешним украинским руководством), то, значит, Украина не войдет ни в ЕС, ни в ЕЭП. И будет такой себе страной-буфером, торгующей с ЕС и Россией на условиях режима наибольшего благоприятствования. То есть будет постоянно уязвима в торговле с этими странами.
Опубликовано в газете «Бизнес» (Украина) 17 апреля 2006 г.
ФОРмИРОВАНИЕ СОюЗНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИмО ПРОВЕСТИ В БЛИЖАйШИЕ ДВА ГОДА
Открытое письмо президентам России, Белоруссии, Украины и Казахстана
Пятнадцать лет прошло с момента самоликвидации высших органов власти СССР и обретения независимости пятнадцатью бывшими союзными республиками. За эти годы наши народы прошли тяжелый путь овладения новыми формами хозяйствования и государственного управления. Созданы новые механизмы социально-экономического развития, обретен опыт работы в условиях открытой экономики, в острой конкуренции выросли многие высокоэффективные предприятия.
Вместе с тем ни в одном из наших государств до сих пор не достигнуты уровень и качество жизни советского народа. Во многом это стало следствием разрушения общего экономического пространства и кооперационных связей, соединявших наши производственные системы в единый организм. Его расчленение повлекло гибель значительной части научнопроизводственного потенциала, примитивизацию экономики и деградацию социальной сферы.
Накопленный нами опыт конкуренции в условиях глобальной экономики убедительно доказал пагубность разрушения и фрагментации некогда единого экономического пространства. Развернувшаяся в каждом из наших государств борьба за раздел и приватизацию некогда общего государственного имущества помешала сохранению всесоюзных производственно-технологических систем, обломки которых утратили конкурентоспособность. По техническому уровню, сложности и эффективности производства наши экономики были отброшены на десятилетия назад. Реальностью стало установление контроля над нашим экономическим пространством транснациональными корпорациями, фактическое превращение наших государств в сырьевые колонии и резервуа
ры дешевой рабочей силы для иностранного капитала, утра та подлинного национального суверенитета.
До сих пор не удалось остановить тенденции дезинтеграции наших экономических систем. Несмотря на многочисленные политические декларации глав государств Содружества, наши государства продолжали отдаляться друг от друга, втягиваясь в орбиту внешних центров экономического и политического влияния. После подписания соглашений о свободной торговле в начале 90-х годов не было сделано реальных шагов по пути восстановления общего экономического пространства. Соглашения о формировании Таможенного союза и Единого экономического пространства наших государств до сих пор не реализованы. Под угрозу поставлено сохранение Союзного государства России и Белоруссии.
Приближается момент, когда дезинтеграция наших государств станет необратимой. Вхождение каждого из них в ВТО на своих условиях поставит крест на планах по созданию Единого экономического пространства и Таможенного союза, сделает наши отношения зависимыми от международных обязательств. Не понимать этого — значит обманывать себя и вводить в заблуждение наши народы. Об этом говорит опыт Грузии, Молдавии и Киргизии, которые, подписав кабальные условия присоединения к ВТО, закрыли для себя возможность полноценного участия в Едином экономическом пространстве.
Через пять лет в руководство нашими государствами войдет новое поколение граждан, которое получило образование и вошло в сознательную жизнь после распада Советского Союза. У них нет опыта работы в единой стране, им менее понятны ценности исторического величия и общих завоеваний Великой державы, более тысячелетия объединявшей народы на огромном пространстве от Бреста до Чукотки. У многих из них под влиянием националистических искажений общей истории отсутствует чувство ответственности за общее наследие Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, СССР. А значит — и нет должного понимания общего будущего, общих интересов и достижений.
Нынешнее поколение государственных руководителей может оказаться последним, которое в силах остановить дезинтеграцию и колонизацию нашей общей Родины и добить ся ее воссоединения. Для этого нужно стать выше местных интересов и взять на себя мужество реализовать политическую волю большинства наших граждан, которые не хотят жить в стране, разделенной таможенными, визовыми и прочими барьерами.
Это воссоединение не будет означать отказа от национального суверенитета. Сохраняя его, наши государства могут восстановить общее экономическое, гуманитарное и правовое пространство. Целесообразность этого следует не только из прошлого опыта, но и из реалий глобальной конкуренции, вынудившей объединяться извечно враждовавшие друг с другом страны Евросоюза, Америки, Юго-Восточной Азии. Восстановление кооперационных связей и объединение сравнительных преимуществ повышают конкурентоспособность нашей экономики и открывают дополнительные возможности экономического роста. Но для этого необходимо создание наднациональных органов управления экономическим развитием, которые обеспечили бы функционирование единого экономического пространства.
Опыт работы СНГ доказал невозможность сохранения Единого экономического пространства без общих органов управления, ответственных за проведение единой торговоэкономической политики. Без союзного таможенного комитета не может функционировать Таможенный союз. Без союзного кабинета министров и Центрального банка не сможет функционировать Единое экономическое пространство. Без союзного парламента и Верховного суда не может быть создано единое правовое пространство. Без союзного президента не будет общей политики развития.
Создание полноценных союзных институтов государственного управления с ограниченным перечнем функций (единая торговая, денежная, антимонопольная, транспортная, энергетическая политика) не будет ущемлять национального суверенитета во внутриполитических вопросах. Каждое из государств сможет сохранить суверенитет в области управления своими национальными богатствами, в сфере культурной и социальной политики, имущественных отношений, формиро вать свою налогово-бюджетную систему и осуществлять дру гие функции внутреннего регулирования.
Формирование союзных органов управления должно происходить на началах прямого волеизъявления граждан. В противном случае (ротация национальных представителей), как показывает опыт функционирования институтов СНГ, эффективного управления не получается из-за недостатка их легитимности и взаимного нежелания национальных органов регулирования делегировать полномочия. Иными словами, нормальное функционирование союзных институтов государственного управления предполагает прямые выборы президента и парламента гражданами всех государств. При этом, с учетом нашего исторического опыта, начинать надо с выборов союзного президента. В этих выборах, безусловно, смогут принять участие ныне действующие главы государств. В этом случае каждый из президентов союзных государств сможет сохранить властные полномочия, не ставя под сомнение их легитимность.
С учетом указанных выше временных ограничений, формирование союзных органов управления необходимо провести в ближайшие два года. Если подписать соответствующий межгосударственный договор к середине этого года, то до его конца можно провести их ратификацию или общенародные референдумы, до весны будущего года провести выборы союзного президента, к осени — выборы союзного парламента и формирование Верховного суда. В качестве основы союзного договора может быть взят проект конституционного Акта союзного государства России и Белоруссии, подготовленный по поручению глав государств.
Предлагаю рассмотреть этот или другой вариант реального восстановления единого экономического, гуманитарного и правового пространства нашей страны на ближайшей встрече глав государств Содружества.
Депутат Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель Национального института развития
С.Ю. Глазьев 17 марта 2007 г.
ВЛАСТВУюЩАЯ ЭЛИТА ПРОТИВ НАРОДА
Сокрушительная победа административного ресурса на прошедших президентских выборах фактически завершила эволюцию политической системы страны после принятия ельцинской конституции в декабре 1993 г. В стране остался один реальный политик — президент Путин, все остальные подвизающиеся в политике лица либо выполняют его поручения, либо имитируют бурную деятельность на телеэкранах. Публичная политика выродилась до телевизионных шоу, а публичный политик становится разновидностью шоумена, завлекающего публику популистскими речами и наигранными истериками. Реальная политика целиком захвачена бюрократической системой, свободной от какой-либо ответственности перед обществом. Остаются только вопросы: в чем эта политика будет заключаться и в чьих интересах проводиться?
Прежде чем ответить на эти вопросы, попытаемся разобраться в объективных механизмах эволюции нынешней системы власти, невзирая на лица.
Авторитаризм как результат
«демократических» реформ «Демократическая» политтусовка дружно осудила нынешнего президента за узурпацию власти после поражения своих кумиров на прошедших парламентских выборах. Но совершенно очевидно, что авторитарный режим власти сформировался не вчера, а более десятилетия назад в результате насильственного государственного переворота в 1993 г. Сегодня этот режим лишь доведен до завершенной системы с концентрацией всей полноты власти на одном человеке. То, что Ельцину не удавалось сделать вследствие своих человеческих слабостей, его преемником доведено до логического конца — все, что мешает проявлениям абсолютной авторитарной власти, либо устранено, либо подчинено. Никакое сколько-нибудь значительное политическое действие не может быть предпринято без согласования с главой государства.
Вместе с тем вопли «демократической» тусовки по-чело вечески вполне понятны.
Хорошо известно, что ведущие «демократические» партии получали щедрое финансирование от влиятельных олигархических кланов, интересы которых они обслуживали. Я специально использую кавычки, так как политические силы, именующие себя «демократическими» или «либеральными», присвоив себе эти привлекательные для многих и удобные для имиджа «прогрессивных сил» названия, никогда, по сути, таковыми не являлись.
Конечно, они возмущены. Но не фактом узурпации власти президентом — ведь не так давно они его приветствовали так же, как и его предшественника, объявляя ту же самую власть демократической, либеральной и прогрессивной. Вся разница лишь в том, что раньше власть нуждалась в либеральнодемократическом риторическом прикрытии и предоставляла его глашатаям привилегии присваивать государственное имущество, монополизировать СМИ и источники немалых доходов, а сегодня в этом нет необходимости. Как говорится в известной трагедии, «мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Расстрельщики Верховного совета и прихватизаторы — ряженые демократы и либералы — власти больше для самооправдания не требуются. Лишившись протекции и государственных ресурсов, сами по себе они оказались неспособными вести сколько-нибудь убедительную политику, потерпев фиаско на парламентских выборах и побоявшись даже участвовать в выборах президента.
Так что «демократическим» силам если и обижаться на кого, так это на самих себя. Они породили нынешнюю политическую систему, исходя из вполне корыстного желания использовать президентские полномочия для защиты от ими же ограбленного народа. Но разросшаяся и укрепившаяся властвующая бюрократия в услугах «защитников прав человека» больше не нуждается. Поэтому им приказано уйти из политики.
Потеряв мандат на представление политического имиджа авторитарно-коррупционного режима в качестве прогрессивного, так называемые правые силы тут же утратили и доверие народа, на обман которого все эти годы направлялись колоссальные информационные и финансовые ресурсы. Туман развеялся, и избиратели увидели наготу «демократических» королей-оборотней.
Действительно, как могут считаться демократами деятели, активно поддержавшие расстрел высшего органа представительной власти в стране? Как могут считаться либералами лица, использовавшие государственную власть ради личной наживы, присвоив государственное имущество и природные ресурсы страны под видом «приватизации». Своими «либеральными реформами» они фактически породили симбиоз паразитической бюрократии и коррумпированного чиновничества с произволом монополий и метастазами организованной преступности. В результате мы получили политику без демократии, рынок без конкуренции, государство без ответственности. Эта модель организации взаимоотношений государства, бизнеса и общества лишена внутренних механизмов развития и обречена на загнивание: политика без демократического контроля оборачивается узурпацией власти и ее злоупотреблениями, экономика без конкуренции деградирует и влечет за собой обеднение общества, государство без ответственности порождает чиновничий произвол и лишает смысла государственную власть.
Хотя сложившаяся в стране политико-экономическая система блокирует механизмы развития, она приносит колоссальные сверхприбыли власть имущим. В отсутствие конкуренции, демократического контроля и каких-либо механизмов ответственности они получили возможность присвоения львиной доли национального богатства и дохода. Это позволило им направить в своих интересах деятельность органов государственной власти и средств массовой информации, сформировав в общественном мнении ощущение приемлемости происходящего. Но нельзя достичь благородной цели преступными и аморальными способами. В результате «коррупция в защиту демократии» — формула, реализованная «либералами» при формировании олигархического режима в 1996 г. ради переизбрания Ельцина президентом страны, — погубила либерально-демократические реформы.
Объективно оценивая эволюцию нынешней политической системы, «демократы» и «либералы» должны признать свое авторство — они стали жертвой порожденного ими же чудовища. Нельзя же всерьез надеяться построить демократию путем насильственной узурпации власти, либеральную
экономику — путем присвоения чужого имущества, правовое государство — при помощи коррупции. Они реально действовали прямо противоположно тем ценностям, которые провозглашали. Просто, находясь у вершины сооруженной ими олигархо-коррупционной пирамиды власти и чувствуя себя хорошо, они маскировали авторитарный режим «демократическими» одеждами. Путин не похоронил демократию — ее расстрелял Ельцин более 10 лет назад. И перевыборы Путина в этом году были организованы при помощи тех же технологий, что и перевыборы Ельцина в 1996 г. С той лишь разницей, что сейчас государственная бюрократия решила политическую задачу без унизительного заискивания перед олигархами, поставив их в положение исполнителей.
В этом, пожалуй, главное отличие нынешней политической ситуации от прежней. Если раньше в симбиозе паразитической олигархии и коррумпированной бюрократической верхушки ведущую роль играла олигархия, то сегодня положение изменилось в пользу бюрократической верхушки. Она диктует олигархам правила игры и определяет каждому из них свое место, сохраняя им присвоенные богатства в обмен на политическую лояльность и определенные повинности.
Этот поворот произошел не только потому, что нынешний глава государства, в отличие от прежнего, стремится управлять, а не править. Главная причина — закончилась приватизация государственного имущества. Делить больше стало нечего, и начался передел ранее захваченной у государства собственности. Ведь главным источником богатства и доходов в созданной «либерал-реформаторами» системе политико-экономических отношений является не труд, не знания и не предпринимательская инициатива, а банальное присвоение чужого — будь то государственное имущество, природные ресурсы или завышение цен монополистами. Пока шло обогащение за счет приватизации, олигархические кланы мирно уживались с государством, отстегивая чиновникам соответствующую мзду в обмен на присвоение государственных ресурсов. Когда раздел советского наследства в основном завершился и начались схватки за передел, государственный аппарат со своей системой судебной власти и принуждения оказался в центре этой борьбы, и роль бюрократической верхушки в принятии решений существенно возросла.
Каких последствий можно ожидать от этих изменений? Для общества в целом «от перемены мест слагаемых сумма не меняется». Действительно, от того что в симбиозе паразитической олигархии и коррумпированной верхушки ведущая роль перешла к последней, тенденции загнивания и деградации не изменились. Но для конкретных лиц изменения оказались судьбоносными. Если раньше олигархи считались «всемогущими», добиваясь посредством денег любых нужных им государственных решений, то сегодня они должны либо угождать бюрократической верхушке, либо бежать из страны.
Эти изменения имеют и определенные экономические последствия. При всей неэффективности сложившейся системы политико-экономических отношений в ее рамках выросли некоторые успешные бизнес-структуры, дающие большие доходы. Именно они становятся наиболее привлекательным объектом бюрократического произвола и вымогательства. Чем эффективнее работает предприятие, чем больше оно дает прибыли, тем больше вымогательств и поборов со стороны коррумпированных контрольных органов и тем энергичнее попытки захвата такого предприятия со стороны конкурентов с опорой на административный ресурс. Таким образом уничтожаются стимулы к экономической эффективности и подавляются немногие сформировавшиеся зоны экономического роста. Главным смыслом «крупного бизнеса» остается вывоз капитала за рубежом.
Из политических последствий следует выделить установление полного административного контроля над СМИ. Если раньше контроль над СМИ принадлежал олигархическим кланам, которые, конкурируя друг с другом за политическое влияние, допускали определенную свободу слова, то сегодня вся политически значимая информация подвергается жесткой административной цензуре, а федеральные СМИ — прямому контролю со стороны президентской администрации.
Также под контроль президентской администрации перешли политические партии, претендующие на представительство в парламенте. Раньше трудно было себе представить, чтобы руководители оппозиционных политических партий договаривались о выдвижении своих кандидатов на президентские выборы со своим главным соперником. Сегодня они согласо вывают свои политические решения, получая в обмен на по литическую лояльность доступ к СМИ и финансовым ресурсам, административную поддержку в «раскрутке» согласованных с Кремлем кандидатов.
В то же время, как могу свидетельствовать по собственному опыту, самостоятельность в принятии важных политических решений карается жестким административным произволом. Неугодные своей самостоятельностью политики всеми способами, в том числе противозаконными, вытесняются из политического пространства. Распространение клеветнических и оскорбительных материалов, блокирование доступа к СМИ, шантаж политических партнеров — далеко не полный перечень противозаконных приемов в отношении неугодных политиков и политических организаций. Фактически страна стоит на пороге политических репрессий.
Есть уже и первые жертвы. После того как партия «Созидание» поддержала мою кандидатуру на президентских выборах и избрала меня лидером, ее представителя пригласили в администрацию президента для воспитательного внушения. После отказа от пересмотра своего решения партию просто прикрыли по инициативе Минюста. Разгрому подверглась еще одна партия, осмелившаяся поддержать меня на президентских выборах, — вошедшая в блок «Родина» Социалистическая единая партия России. Через заискивающих перед президентской администрацией лиц в руководстве этой партии был организован раскол, парализовавший ее работу. Зато согласившаяся на политическое предательство часть блока «Родина» была поощрена передачей им всех атрибутов блока.
Таким образом, действуя методом кнута и пряника, президентская администрация взяла под свой контроль всю организованную политическую оппозицию. Руководители парламентских партий поставлены в положение президентской политической прислуги, а несогласные с ролями политических шутов освобождены от руководящих постов и доступа к СМИ.
Государственный переворот, начавшийся с расстрела Верховного совета и принятия «ельцинской» конституции, завершен. В стране сформировалась авторитарная система власти, опирающаяся на административные методы принуждения и подчинившуюся ей олигархию. Но суть социально-экономических отношений не изменилась — политика государства попрежнему ведется в интересах паразитической олигархии и коррумпированной бюрократической верхушки вразрез с общенациональными интересами. Об этом свидетельствуют все важнейшие государственные решения последнего времени: о легализации вывоза капитала, приватизации городских земель, дальнейшем свертывании социальных обязательств государства, об отмене платежей за загрязнение окружающей среды, о приватизации электроэнергетики и многие другие, принимаемые под давлением частных интересов в ущерб общенациональным.
Миф о пользе авторитаризма
Несомненно, установление авторитарного режима власти было бы невозможно при наличии развитых институтов гражданского общества и противодействии народа. Но в обществе сохраняется расхожий миф о «добром царе и плохих боярах». Общественное сознание стихийно склоняется к сильному государству, ошибочно принимая за таковое авторитарный режим государственной власти.
Между тем очевидно, что авторитарное государство не означает государство сильное. Как правило, наоборот. Многочисленные авторитарные режимы в слаборазвитых странах сильны только в отношении своих беззащитных подданных, пасуя перед внешними и внутренними угрозами. Достаточно посмотреть на многих африканских диктаторов, наводящих ужас террором и репрессиями на собственные народы и угодливо раскланивающихся перед зарубежными покровителями за право держать награбленные в своих странах деньги в западных банках и «тусоваться» в «хорошем» обществе.
И наоборот, государства с развитыми институтами демократического контроля над властью, правовой дисциплиной и политической свободой демонстрируют силу и способность эффективно защищать общенациональные интересы. Происходит это в результате большей ответственности власти, поставленной под контроль общества, чем власти произвольной и неограниченной. Как известно, всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Чтобы власть работала в интересах общества, необходим постоянный систем ный контроль последнего за властными институтами, их от
крытость для критики и замены недостойных должностных лиц компетентными и ответственными кадрами.
Дилемма — власть для народа или народ для власти — в каждой стране в каждый момент времени решается в зависимости от сочетания конкретных форм организации власти и общественного контроля над ней с субъективными факторами. История знает примеры как просвещенных монархий и диктатур, реализующих общенациональные интересы, так и большое количество коррумпированных антинародных режимов, скрывающихся под демократическими формами.
Формально Российское государство считается демократическим, но очевидно, что власти народа в нашей стране нет. Скорее наоборот, народ принуждается реально действующей машиной власти к подчинению невыгодной большинству населения и губительной для России системе социально-экономических отношений. Она превращает 90% граждан в бесправных наемных рабов, а страну — в объект наживы.
При видимости демократических форм реальная политика ведется авторитарным способом. Ее главный смысл — самовоспроизводство властвующей верхушки со всеми ее «кормушками» и привилегиями. Выборы президента, вокруг которого вследствие «ельцинской» конституции выстраивается вся политическая система, организуются с заранее известным итогом. Он задолго до волеизъявления граждан доводится президентской администрацией до избирательных комиссий. Руководители парламентских партий, в том числе оппозиционных, согласовывают свою политику с президентом. Им же определяются суть и границы информационной политики на телевидении, радио и на страницах ведущих федеральных газет.
В навязанной нам в 1993 г. посредством государственного переворота политической системе отсутствует главный механизм, связывающий государство и общество, — механизм ответственности носителей государственной власти перед гражданами. И хотя по конституции государство именуется «социальным» и отвечает за право каждого гражданина на «достойную жизнь и свободное развитие», реально за соблюдение законных прав, уровня и качества жизни российских граждан никто ответственности не несет.
Министры, судьи, прокуроры, а в последнее время также члены Совета Федерации и большинство депутатов Госу дарственной думы, руководители федеральных телерадиокомпаний и Центризбиркома реально назначаются президентом или от его имени и несут ответственность фактически только перед ним и его ставленниками.
В свою очередь, глава государства свободен от какой-либо реальной ответственности за проводимую им политику, поскольку, располагая всей полнотой власти над всеми ее ветвями, он застрахован от отстранения от должности и может влиять на формальные результаты выборов независимо от реального волеизъявления граждан. Фактически у президента при нынешней политической системе один контролер — его совесть, помноженная на его знания и правильность понимания необходимой для развития страны политики. Объективные, то есть действующие помимо его воли, механизмы контроля в нынешней политической реальности отсутствуют, их подменила «королевская свита» угодников, подхалимов и прихлебателей.
Сторонникам авторитарного государства не остается ничего, кроме как уповать на добрую волю и нравственные качества государя, подыскивая хорошие примеры в нашей дореволюционной истории. Согласно действующей конституции, других механизмов сдерживания президентской власти нет. Но если в царской России самодержавный император отвечал за свои действия перед Богом и не мог преступать установленных религией заповедей и норм, то в нынешней светской России абсолютная власть порождает абсолютный произвол. Разграбление государства посредством приватизации в пользу своих приближенных, чудовищная коррупция в высших эшелонах власти, открытое развращение общества, растление детей пропагандой разврата и насилия на государственном телевидении, вывоз более полутриллиона долларов за рубеж при систематическом невыполнении установленных законом обязательств государства перед гражданами, силовое подавление и преследование политических оппонентов — далеко не полный перечень типичных преступлений, совершаемых сегодня государственной машиной против собственных граждан и своей страны.
Даже если мы будем надеяться на чудо и вообразим себе во главе государства глубоко нравственного, знающего и по нимающего всю ответственность неограниченной власти го сударя, то вследствие объективной невозможности осуществления контроля одним человеком над всей государственной системой последняя оказывается заложницей безответственной бюрократии, действующей по принципу круговой поруки и принимающей решения в своих интересах от имени президента. Так принимались многие решения, обогатившие олигархов и лишившие российских граждан прав на общенародное имущество, бесплатное использование земли, надежное и общедоступное электро- и теплоснабжение, а бюджет — необходимых для выполнения социальных обязательств доходов.
Авторитаризм в современных российских условиях — это не признак силы, а выражение слабости нынешнего государства. Сильной, компетентной и ответственной государственной власти, работающей в интересах граждан, не нужно подавлять оппозицию. Напротив, с ней поддерживается открытый диалог с целью оптимизации государственных решений. Нынешний авторитаризм Российского государства по сути своей есть сговор паразитирующей олигархии, коррумпированного чиновничества и организованной преступности. Участников этого своеобразного «социального контракта» объединяют «шкурные» интересы. Их главный мотив — сохранение кормушек, сытая жизнь и сиюминутные удовольствия. Их не волнует будущее страны, они в принципе не задумываются над угрозами национальной безопасности — будь то ожидаемые в недалеком будущем падение цен на нефть, мировой финансовый кризис или разрушение систем жизнеобеспечения страны. В отличие от других развитых стран, элита которых активно занимается поиском возможностей будущего социально-экономического развития, модернизацией экономики на основе нового технологического уклада, созданием условий для реализации творческого потенциала своих граждан, российская властвующая элита живет сегодняшним днем, погрязнув в пороках и действуя по принципу «после нас хоть потоп». При этом боится она не угроз национальной безопасности, а собственного народа и ответственности за нанесенный стране ущерб и совершенные преступления.
Коррумпированное чиновничество инстинктивно льнет к авторитарной власти в страхе перед открытыми демократическими формами общественного контроля. Олигархи готовы откупиться и всемерно поддерживать действующую власть, лишь бы сохранить контроль над полученными в результате приватизации предприятиями и источниками дохода. Руководители СМИ готовы на фабрикацию и размещение любых клеветнических материалов, лишь бы сохранить свои «теплые места», наживаясь на развращении подростков и нравственном разложении общества. Предприниматели охотно дают взятки для ухода от установленных законом обязанностей. Коррумпированные чиновники, не задумываясь, идут на исполнение преступных указаний руководителей ради сохранения своих должностей.
Последние президентские выборы продемонстрировали удивительную сплоченность бюрократии, легко согласившейся на крупномасштабные нарушения избирательного законодательства и с энтузиазмом поучаствовавшей в выполнении спущенных сверху показателей всенародного волеизъявления. Часто не одобряя в душе проводимую федеральной властью политику, чиновники всех уровней принуждали зависимых от них людей голосовать за действующего президента, а членов избирательных комиссий — к обеспечению «нужного» результата. Что могло заставить сотни тысяч облеченных властью лиц пойти на открытое грубое нарушение избирательного законодательства, несмотря на угрозу уголовного наказания за это преступление? Почему, в свою очередь, миллионы людей подчинились такому давлению, хотя проводимая властью политика противоречит их интересам?
В стране за последнее десятилетие на почве безответственности и чудовищного социального неравенства сформировалась коррупционная, безответственная и циничная система власти. Под развращающим влиянием ельцинских «реформ», породивших вседозволенность и разнузданность властей предержащих, разрушивших связь между трудом и благосостоянием, убедивших активную часть общества, что кратчайший путь к богатству — это присвоение чужого, в стране сформировалась воровская властвующая элита. Произошло сращивание государства и организованной преступности, доступ к государственной власти стал рассматриваться как источник наживы, вошла в практику нелегальная «продажа» должностей — назначение должностных лиц за взятки. Властей предержащие стали жить не по закону и не по нравственным нормам, а по понятиям. Главное из них, определяю щее «кодекс чести» властвующей элиты, — кормись сам и да вай кормиться другому. Не общенациональные интересы, а жажда наживы и хорошей жизни за счет народа стала главным движущим мотивом властей предержащих.
Оценивая нынешнюю политическую систему, мы должны понимать, что круговая порука коррумпированных чиновников, недобросовестных предпринимателей, организованной преступности подавляет развитие страны и подъем благосостояния народа, превращая и страну, и людей в источник наживы для тех, кто должен по долгу своему им служить. Властвующая элита закостенела в воровстве и злоупотреблениях, она некомпетентна и аморальна. Она в принципе в своем сегодняшнем состоянии не способна к активным действиям в интересах страны. Как озаглавлена одна книга о правде нашей жизни, «Верхи не могут, низы вымирают».
Действительно, какие меры социально-экономической политики мы можем ожидать от этой власти? Правительство уже объявило планы реформирования, а, по сути, коммерциализации социальной сферы. Вслед за жилищно-коммунальным хозяйством планируется перевести на самоокупаемость другие отрасли социальной сферы, сбрасывая с государства ответственность за их состояние. Наряду с планируемой приватизацией электроэнергетики, транспортных систем, городских земель это повлечет за собой резкий рост цен на базовые услуги жизнеобеспечения населения, 90% которого живет на зарплату, заниженную по сравнению с мировыми стандартами вчетверо. Доходы подавляющего большинства граждан слишком малы, чтобы их хватило для финансирования содержания и капитального ремонта крайне изношенной социальной инфраструктуры, а также оплаты сверхприбылей монополистов. Лавина коммунальных катастроф, фактическая ликвидация прав граждан на охрану здоровья, получение современного образования, благоустроенное жилье, бесплатное использование земли; разрушение общенациональных жизнеобеспечивающих систем — легко прогнозируемый перечень ожидаемых последствий проводимой властвующей элитой политики. Ее зримым воплощением остается быстрое сокращение численности и средней продолжительности жизни населения. Разжиревшей на взятках бюрократии не хочется обременять себя заботой о выполнении социальных обязательств и правах граждан, портить отношения со своими «благодетелями» — их все устраивает.
Противостояние властвующей элиты и народа не есть нечто новое ни в мировой, ни в нашей истории. Но мы должны помнить и понимать, что это состояние раскола общества на привилегированную паразитическую верхушку и молчаливое большинство бедных и потерявших веру и надежду людей неизбежно ведет к национальной катастрофе. Она может принимать разные формы в зависимости от наличия жизненных сил в обществе. Сегодня они на исходе — общество реагирует на нравственное разложение властвующей элиты вырождением. Миллионы людей преждевременно уходят из жизни под влиянием алкоголизма и наркомании, социально обусловленных болезней, преступлений и катастроф. Женщины отказываются рожать детей, не видя для них достойного будущего. Лучшие умы покидают страну, не найдя на Родине приложения своим знаниям и талантам.
Я понимаю, что многие сочтут такую характеристику сложившейся у нас политической системы слишком мрачной. Те, кому повезло работать в монополизированных видах деятельности, в экспортно-ориентированных сырьевых отраслях, вовремя освоить ранее дефицитные и пользующиеся повышенным спросом профессии юристов и бухгалтеров, несмотря на все трудности наладить свое дело, могут чувствовать определенное удовлетворение своим положением. Но таких, увы, меньшинство. Их может стать еще меньше после неизбежного в скором будущем падения цен на нефть и сырьевые товары на мировом рынке. Две трети нашего населения при продолжении проводимой в стране политики не смогут вырваться из бедности, дать своим детям хорошее образование и обрести жизненную перспективу.
Происходит это не потому, что власти не знают, что делать, — необходимые для эффективной политики экономического роста и подъема народного благосостояния меры давно предлагают ученые и народно-патриотические силы. Органы государственной власти не проводят необходимую для успешного развития страны политику, потому что последняя предполагает кардинальное изменение структуры распределения национального дохода, невыгодное тем, кто контролирует общенациональные богатства, наживаясь на их эксплуатации за счет всего общества. Поэтому народ продолжает вымирать под фанфары победной риторики обезумевшей от вседозво ленности властвующей элиты.
Пути оздоровления государственной власти
Способы оздоровления государственной власти хорошо известны. При нынешнем состоянии пораженного коррупцией государства нет другого пути эффективного устройства политической системы, кроме принципа жесткой ответственности властей предержащих за проводимую ими политику и принимаемые решения. Необходима политическая ответственность исполнительной власти за уровень благосостояния и качество жизни населения. Для этого следует принять соответствующие федеральный и региональные законы, предусматривающие введение механизма объективного контроля за уровнем и качеством жизни по стране в целом и в каждом регионе, а также процедуру отставки федерального правительства и администраций субъектов Федерации в случае снижения уровня жизни соответственно в стране или регионе. Необходимо также введение персональной ответственности государственных должностных лиц за надлежащее исполнение законов, привлечение их к административной или уголовной ответственности автоматически по фактам нарушения норм действующего законодательства.
Для преодоления коррумпированности, некомпетентности и безответственности исполнительной власти требуется также введение механизмов парламентского контроля над деятельностью правительства и расширение полномочий Государственной думы в утверждении кабинета министров.
Аналогичным образом должна быть введена политическая ответственность депутатов Госдумы и членов Совета Федерации перед делегировавшими их во власть избирателями. Для этого каждый баллотирующийся на выборную должность кандидат должен официально представить свою программу и предвыборные обязательства. За их нарушения в случае его избрания должна следовать ответственность, для чего необходимо ввести соответствующие процедуры отзыва депутатов избирателями, а членов Совета Федерации — делегировавшими их региональными органами власти.
Ключевой вопрос функционирования правового государства и рыночной экономики — эффективность судебной системы. Нынешняя ее организация по принципу «круговой поруки» судей и их административного назначения порождает судебный произвол, коррупцию и безответственность. При всех недостатках механизма выборности судей населением он лучше нынешней коррумпированной системы. Судей целесообразно избирать на неограниченный срок с периодическим подтверждением полномочий при наличии оснований для их отзыва непосредственно населением.
Наконец, «четвертая власть» — средства массовой информации — не может оставаться в нынешнем состоянии подчинения президентской администрации, коррумпированности и вседозволенности. Государственные телеканалы должны быть под контролем общественности и управляться советами директоров, избираемыми соответствующими представительными органами власти. Независимо от форм собственности при теле- и радиокомпаниях должны действовать наблюдательные советы, избираемые представительными органами власти из авторитетных деятелей культуры, представителей Церкви, влиятельных общественных организаций в целях контроля над соответствием содержания транслируемых передач общепринятым нормам нравственности и требованиям действующего законодательства. Необходимо также ужесточить ответственность руководителей СМИ за распространение клеветнической информации и другие злоупотребления влиянием на общественное мнение.
В разумной политической системе глава государства должен быть не самодержавным диктатором, а дирижером, следящим за тем, чтобы все ветви власти работали в гармоничной симфонии совместной деятельности, формируя оптимальный для граждан и общества порядок. Иными словами, его главная функция должна заключаться в контроле над соблюдением законодательства всеми ветвями власти и обеспечении соответствия проводимой государством политики общенациональным интересам. При этом, разумеется, сам президент не должен нарушать законодательства, включая оказание административного давления на суды, прокуратуру, избирательные комиссии.
Не будем также забывать, что любые формы социальноэкономических отношений могут эффективно работать только в адекватной культурно-нравственной среде. В частности, рыночные отношения будут работать на развитие экономики только при наличии жесткой ответственности их субъектов за выполнение взятых на себя обязательств, строгое соблюдение принципов добросовестной конкуренции и правового государства. При этом чем ответственнее поведение деловых кругов, тем либеральнее может быть политика государства.
Нынешнее состояние государства и общества не позволяет проводить предлагаемую нами эффективную политику социальной справедливости и экономического роста. Ведь для этого необходимо вернуть в казну сверхприбыли от эксплуатации природных ресурсов, как минимум вдвое поднять уровень зарплаты, снизить тарифы на услуги естественных монополий до реальных издержек производства, провести демонополизацию и декриминализацию потребительского рынка в целом. В результате этих мер уровень жизни населения повысится не менее чем вдвое, у государства появится возможность модернизации социальной инфраструктуры, обеспечения социальных гарантий и стимулирования научно-технического прогресса, что обеспечит быстрое и устойчивое социально-экономическое развитие страны. Но для осуществления такой политики от руководства страны требуются последовательные целенаправленные усилия по преодолению коллективного сопротивления олигархов, коррумпированных чиновников, монополистов и организованной преступности.
Как говорится, «легко сказать, да трудно сделать». Нужно кардинальное оздоровление общественного сознания и очищение властвующей элиты. Нравственное разложение властвующей элиты является главным препятствием развитию страны, росту экономики и общественного благосостояния. На всех уровнях управления сложилась круговая порука коррумпированных чиновников, организованной преступности и лживых проводников общественного мнения. Мы живем в мире искаженных представлений и двойных стандартов, в котором общественное сознание затуманено химерическими образами, ложными мифами, сиюминутными настроениями и ощущениями, фабрикуемыми ангажированными средствами массовой информации. Чтобы вырваться из этого состояния умопомрачения и обрести, наконец, ясность в понимании смысла происходящего и необходимых для развития страны изменений, необходимо предпринять серьезные усилия по оздоровлению общественного сознания.
Но одного лишь понимания необходимых для оздоровления государственной власти действий недостаточно — для изменения положения дел нужна политическая воля. В целях ее обретения накануне парламентских выборов нами был сформирован Народно-патриотический союз «Родина». Его относительный успех есть выражение политической воли 5,5 млн. граждан, требующих конкретных мер по осуществлению государственной политики в общенациональных интересах и оздоровлению государственной власти. К сожалению, первое же столкновение с административным произволом власти в ходе президентской кампании этот союз не выдержал, вызвав разочарование многих поверивших в реальность новой здоровой политической силы людей.
Тем не менее относительные неудачи не должны порождать уныние и неверие в возможность оздоровления государства и общества. Здоровым силам следует извлечь уроки из поражений и неудач и найти формы консолидации общества на основе конкретной программы действий по защите общенациональных интересов. Один из уроков — недопустимость втягивания в политические спектакли, организуемые президентской администрацией в целях обмана избирателей. Это лишь дискредитирует оппозицию и укрепляет сложившуюся нездоровую систему власти.
К сожалению, этот урок до сих пор так и не усвоен. Стыдно видеть, как после учиненного президентской администрацией погрома союза «Родина» на соискание поручения по организации «левопатриотической оппозиции» в президентской приемной выстроилась целая очередь претендентов. Аналогичная очередь выстроилась и со стороны соискателей на право руководить «правыми силами». Удивительная готовность претендующих на политическое лидерство соискателей превратиться в актеров в придворном политическом театре низводит возглавляемые ими политические организации до роли прислуги в коридорах власти и вызывает разочарование общества.
Оздоровление страны предполагает очищение не только властвующей элиты, но и оппозиции. Последней надо избавиться от лицемерия и от болезненного желания прислониться к власти. Пора выйти из виртуального политического пространства и научиться жить в реальной системе координат. Хватит обманывать избирателей.
Давайте честно признаемся, что после расстрела Верхов ного совета в 1993 г. в нашей стране так и не сформировались правые силы. Была лишь политическая прислуга олигархических кланов, прикрывавшая разграбление страны либерально-демократическими лозунгами. Не удалось создать и дееспособную коалицию левых сил. Попытки их реального объединения блокировало руководство КПРФ ради сохранения своей монополии на роль главного оппозиционера в политическом спектакле. Имитация бурного протеста все эти годы сопровождалась полной неспособностью оппозиции влиять на политические и социально-экономические процессы. Система политических координат утратила ясность, люди перестали понимать смысл политической деятельности, утратили доверие к политическим лидерам.
Оппозиции пора, наконец, обрести дееспособность. Политическим лидерам — не толкаться в коридорах президентской администрации, стремясь договориться о распределении ролей, а защищать интересы граждан, оказывая давление на власть, объединяя людей вокруг конкретной программы действий в общенациональных интересах.
Оздоровление системы государственной власти невозможно без очищения всех конструктивных сил от лицемерия, трусости, ханжества и угодничества перед властями предержащими. Народ нельзя обманывать постоянно. Люди уже научились отличать политических клоунов и шоуменов телевизионных политспектаклей от тех, кто стремится к реальному изменению политической ситуации в стране в общенациональных интересах. Нам нужно объединяться в реальную политическую силу, в которой десятки миллионов наших граждан смогут, наконец, увидеть своих защитников и выразителей общенациональной политической воли.
Опубликовано на сайте «Еженедельного журнала» www.ej.ru
13 июля 2004 г. и на сайте www.rian.ru 14 октября 2005 г.
Часть II
ОтЧет перед избирателяМи
В 2007 г. завершаются полномочия депутатов, избранных в Государственную думу IV созыва. Пора подводить итоги. В этой части книги представлен отчет о законотворческой деятельности думской фракции «Родина» перед избирателями, поддержавшими блок «Родина» на выборах в Государственную думу, а также отчет о моей работе с избирателями Подольского округа № 113, по которому я был избран в Госдуму.
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАКЦИИ «РОДИНА»
Во время парламентской избирательной кампании 2003 г. блок «Родина» заключил договор с избирателями, под которым стоит моя подпись. В соответствии с этим договором фракция «Родина» обязалась инициировать законопроекты, необходимые для осуществления нашей программы социальной справедливости и экономического роста.
Главным итогом своей работы мы считаем изменение государственной политики России в направлениях развития экономики и социальной сферы, которые отстаивал Народно-патриотический союз «Родина». Нам удалось заставить правительство, которое начинало свою деятельность с дерегулирования экономики, ликвидации бюджета развития и мо-
1 В этом разделе использованы данные официального Отчета фракции «Родина» в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации о работе за 2006 г.
нетизации льгот, развернуть институты развития и восстано вить целевые программы, заняться промышленной политикой и поддержкой инвестиционной активности, принять меры по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми, повысить зарплату врачам и ученым, вернуть ряд социальных льгот. Мы победили в борьбе за возвращение природной ренты в доход государства и убедили власть в необходимости расходовать сверхприбыли от экспорта нефти и газа на цели социально-экономического развития страны. Мы выдвигали идеи, которые отвергала партия власти, но правильность нашей позиции доказала сама жизнь. Жаль только, что обучение министров заняло долгих семь лет. Если бы нынешнее правительство и партия власти с самого начала своей деятельности следовали рекомендациям ученых, обобщенным в нашей программе «Социальная справедливость и экономический рост», то сегодня уровень экономической активности и общественного благосостояния был бы вдвое выше. Но вместо этого нынешняя партия власти заблокировала прохождение всех наших законодательных инициатив. Теперь, накануне выборов, они торопятся их перевнести уже от своего имени — в урезанном виде и с огромным опозданием.
Всего депутатами нашей фракции было внесено около двухсот законодательных инициатив по актуальным вопросам развития страны. Среди них — законопроекты об изъятии природной ренты в доход государства, об ответственности государственной власти за уровень и качество жизни населения, о восстановлении дореформенных сбережений, о ценовой политике, о реализации конституционного права граждан на достойную жизнь. В числе последних — законопроекты, направленные на повышение материальной поддержки семей при рождении ребенка. В частности, мною и другими депутатами фракции был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях сохранения народонаселения Российской Федерации». Этот законопроект предусматривает: создание необходимых правовых условий для материального обеспечения детей, защиты их прав; формирование благоприятной нравственной и социально-экономической среды для создания многодетных семей, в частности, увеличение детских пособий и ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до прожиточного минимума;
введение разовых денежных выплат в связи с рождением ре бенка; приведение минимальной оплаты труда в соответствие с прожиточным минимумом; признание восстановления дореформенных сбережений граждан долговым обязательством государства.
Отстаивая принципы социального государства, мы предлагали приравнять оплату труда и пенсионного обеспечения работников образовательных учреждений к денежному содержанию и пенсионному обеспечению государственных служащих.
Нами также предложены поправки в законодательство в области охраны труда, защиты интересов молодежи при трудоустройстве, сохранения объектов культурного наследия, введения льготных механизмов страхования автогражданской ответственности для отдельных категорий граждан.
Руководствуясь принципом социальной справедливости и ответственности, фракция «Родина» инициировала законопроекты о введении прогрессивной шкалы взимания подоходного налога с одновременным увеличением сумм, не облагаемых налогами, для граждан с низким уровнем доходов, минимально гарантированной почасовой ставки оплаты труда и налога на роскошь.
Наша фракция выступала за безотлагательное наведение порядка в вопросах регулирования миграционных потоков, за последовательную и системную политику в борьбе с нелегальной миграцией, нарушающей права и интересы граждан России.
В соответствии с одним из ключевых положений нашей предвыборной программы фракция «Родина» подготовила и внесла поправки в налоговое законодательство, предусматривающие изъятие в пользу государства природной ренты, прежде всего — сверхприбылей от добычи и экспорта нефти и газа. Частичное принятие предложенной нами концепции налогообложения природной ренты позволило более рационально использовать природные богатства России и увеличило приток средств в государственную казну более чем на 2 трлн. рублей в год. Благодаря экспортным пошлинам на вывоз нефти, газа и других природных ресурсов, введенным по моей инициативе еще полтора десятилетия назад, а также налогам на добычу полезных ископаемых, привязанным к мировой цене добываемых ресурсов, федеральный бюджет получает сегодня около половины своих доходов. Таким обра зом, наше требование по возврату природной ренты в доход государства было наконец реализовано.
Однако «Единая Россия», имеющая подавляющее большинство в Госдуме, блокирует наши законодательные инициативы по совершенствованию системы налогообложения, действуя в интересах нефтяных олигархов и обслуживающих их коррумпированных чиновников. В их же интересах партией власти были заблокированы мои законодательные инициативы по изменению валютного регулирования в целях пресечения вывоза капитала и по изменению уголовного законодательства в целях пресечения коррупции.
Такая же ситуация сложилась с принятием внесенного мною на рассмотрение Госдумы законопроекта «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». Он определяет процедуры выбора целей и приоритетов государственной экономической политики, вводит индикативное планирование социально-экономического развития страны, что необходимо для проведения ответственной социально-экономической политики государства. Сегодня, после ветирования этого законопроекта президентом из-за деструктивной позиции Минэкономразвития, он появился в повестке дня законодательных инициатив правительства. Приходится сожалеть, что нынешнему министру экономики потребовалось более шести лет, чтобы понять необходимость создания системы прогнозирования и программирования социально-экономического развития страны.
Важнейший законопроект, внесенный мною в Госдуму во исполнение нашей предвыборной программы, — «Об ответственности органов федеральной исполнительной власти за обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на достойную жизнь и свободное развитие». Он предусматривает введение ответственности исполнительных органов государственной власти за качество и уровень жизни граждан. В нем заложена процедура ежегодной оценки итогов деятельности правительства России, а также законодательно закрепляются правовые нормы политической ответственности за последствия снижения уровня жизни населения вплоть до отставки правительства.
Как нетрудно догадаться, нынешняя власть в лице пра вительства и «Единой России» без энтузиазма отнеслась и к этой моей инициативе. Зачем за выполнение своих обязательств отчитываться, когда можно этого не делать? Более того, сами понятия «качество жизни», «жизненный уровень» исчезли из лексикона правительственных чиновников. Они оперируют формальными показателями, которые якобы неуклонно растут. Реальный уровень и качество жизни народа не интересуют высокопоставленных чиновников, рапортующих президенту о выдающихся успехах.
Ярким примером политики партии власти по уходу от ответственности за социально-экономическое развитие страны стал законопроект о так называемой монетизации льгот, который фактически лишил миллионы граждан прав на многие заслуженные социальные гарантии. Как лидер избирательного блока, за который проголосовали свыше 5 млн. человек, я вынужден был обратиться к президенту Путину с просьбой отозвать этот законопроект. В Подольском избирательном округе против принятия закона в открытой форме высказалось более 3 тыс. человек.
Депутаты фракции «Родина» проголосовали против принятия этого законопроекта и подготовили пакет из 47 поправок, в которых содержались нормы, сохраняющие для граждан социальные гарантии. Все 47 поправок были отклонены. Думское большинство дружно и безответственно проголосовало за, президент проект подписал, и документ приобрел силу закона.
Впоследствии наша фракция поддержала выражение вотума недоверия правительству, инициированное рядом независимых депутатов. Однако дело было спущено на тормозах — думское большинство предпочло уклониться от голосования. И хотя по итогам обсуждения этого вопроса большинство участвовавших в голосовании депутатов поддержали эту инициативу, отказ фракции «Единая Россия» выразить свою позицию спас правительство монетизаторов от отставки.
Наша власть не очень жалует свой народ не только в части отмены льгот. Повторно мне пришлось вносить законопроекты, касающиеся осуществления государством своих обязательств перед гражданами в части возвращения дореформенных сбережений, обесценившихся вследствие противоправных решений органов государственной власти:
«О порядке определения величины государственного дол га по гарантированным сбережениям»;
«О порядке перевода вкладов (депозитов) в Сберегательном банке Российской Федерации»;
«О порядке перевода вкладов в организациях государственного страхования Российской Федерации в целевые долговые обязательства Российской Федерации»;
«О порядке обслуживания сберегательных обязательств
Российской Федерации»;
«О порядке обслуживания целевых облигаций Российской Федерации и целевых сертификатов Российской Федерации».
Государственная власть отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед гражданами не потому, что нет денег. Огромные средства идут на досрочное погашение внешних долгов, омертвляются в Стабилизационном фонде для спокойствия иностранных кредиторов, десятки миллиардов долларов вывозятся за рубеж.
Интересы граждан для нынешней власти третьестепенны по сравнению с интересами иностранных кредиторов и мотивами личной выгоды. Об этом свидетельствуют принятые «Единой Россией» и правительством бюджеты страны на 2005—2007 гг., в которых есть лишь один ярко выраженный приоритет — вывоз капитала за рубеж в форме приобретения долговых обязательств стран НАТО и погашения внешнего долга при игнорировании обязательств государства перед собственными гражданами. Вследствие такой политики сдерживается экономический рост, не реализуются уникальные возможности перехода на инновационный путь развития, парализовано решение острых социальных проблем.
Что можно противопоставить такой социально-экономической политике государства? Мы не просто голосовали против проектов законов о федеральном бюджете на 2005, 2006 и 2007 гг. Мы предлагали альтернативный подход к формированию федерального бюджета страны. Им предусматривались возможности существенного, в полтора, а в перспективе в два раза, увеличения доходов и расходов бюджета без повышения налоговой нагрузки на производство и труд. Для этого вносились законопроекты, предусматривающие возврат в доход государства природной ренты, кардинальное повышение эффективности использования государственной собственности, прекращение вывоза капитала. Однако они не были востребованы властью и отклонены думским большинством.
Та же участь постигла и внесенный депутатами фракции «Родина» законопроект «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Принятие этого закона позволило бы решить вопрос соответствия минимального уровня оплаты труда величине прожиточного минимума трудоспособного населения, которая на сегодняшний день превышает минимальный размер оплаты труда во многих регионах страны более чем в 3 раза. Для этого предлагалось установить МРОТ с 1 января 2007 г. в сумме 1700 рублей в месяц, с 1 июля 2007 г. — в сумме 2500 рублей в месяц, с 1 января 2008 г. — в сумме 3200 рублей в месяц. Несмотря на наличие необходимых для этого средств, «Единая Россия» последовательно отвергает все инициативы по исполнению нормы Трудового кодекса о приведении минимальной оплаты труда в соответствие с прожиточным минимумом. Сделанная правительством уступка о повышении ее до 1400 рублей в месяц (немногим более половины от двукратно заниженного прожиточного минимума) с 1 сентября текущего года нивелируется неспособностью партии власти решить этот вопрос ранее 2011 г.
Думское единороссовское большинство отклонило и разработанный мною проект закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации», который предусматривал расширение прав и возможностей граждан по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, в частности, восстановление возможности обладания земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, а также пожизненного наследуемого владения. Такая же судьба постигла и другую предложенную мною поправку — в статью 20 Земельного кодекса, которая закрепляла возможность для религиозных организаций обладать земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, поскольку владение земельными участками на праве собственности может быть не всегда удобным или необходимым для них.
Мы также вносили в Земельный кодекс поправки, устанавливающие запрет на обладание иностранными гражданами, лицами без гражданства и иностранными юридическими лицами земельными участками на праве собственности, от клоненные думским большинством.
Еще одна наша законодательная инициатива — «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» — направлена на отсрочку исполнения юридическими лицами обязанности переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобретения земельных участков в собственность. В отношении религиозных организаций предложена отсрочка переоформления права безвозмездного срочного пользования по своему желанию до 1 января 2010 г.
Думское большинство единороссовских статистов саботировало рассмотрение следующих законодательных инициатив депутатов фракции «Родина»:
«О запрете игорного бизнеса в Российской Федерации», предусматривающий полный его запрет. Вместо этого возможность легализованного способа обворовывания граждан была продлена партией власти еще на два года с последующим сохранением в отдельных зонах;
«О внесении изменений в статью 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» и статью 2 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Законопроект устанавливает минимальный размер финансирования высшего образования в размере среднегодовой доли таких расходов федерального бюджета в валовом внутреннем продукте за пять предшествующих лет, что позволит планировать деятельность системы высшего и послевузовского образования на среднесрочную перспективу;
«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Законопроект предоставляет гражданам права заключать договоры обязательного страхования при сезонном использовании транспортных средств на срок от трех месяцев в календарном году.
Часть наших законодательных инициатив до сих пор не рассмотрена Государственной думой, в том числе предложения:
об установлении целей расходования средств Стабили-
зационного фонда (включая восстановление дореформенных сбережений и инвестиции в развитие страны);
о закреплении правовых механизмов, препятствующих
блокированию Правительством Российской Федерации законодательных инициатив депутатов оппозиции; о сохранении государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений и числа бюджетных мест в них; о том, чтобы не учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль товариществ собственников жилья суммы, накапливаемые на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; об установлении уголовной ответственности за публич-
ное надругательство над религиозными святынями или за их уничтожение, повреждение или осквернение; об установлении уголовной ответственности за оборот
порнографических материалов и предметов; об уточнении порядка прерывания теле- и радиопередач для рекламы, об ограничении использования на транспортных средствах специальных световых и звуковых сигналов.
Деятельность единоросовского думского большинства была направлена на сохранение статус-кво — легализацию произошедшего в ельцинский период разграбления общенародного достояния. Для этого был сокращен срок исковой давности по имущественным преступлениям (легализованы итоги грабительской прихватизации), приняты Лесной и Водный кодексы (легализовавшие захват лесных угодий, озер и берегов рек), объявлена налоговая амнистия и отменены налоги на наследство и дарение (легализовавшие коррупционные доходы), введена плоская шкала подоходного налога (легализовавшая уклонение от налогов), отменен валютный контроль (легализовавший незаконный вывоз капитала) и приняты многие другие законы, обеспечившие легализацию итогов разграбления страны и раздела государственного имущества в ельцинский период. По смыслу своей деятельности единороссы выступили последовательными продолжателями своих предшественников — гайдаровского «Выбора России», чубайсовского СПС и черномырдинского «Нашего дома».
Тем не менее мы не прекращаем работу по защите прав избирателей в соответствии с заключенным договором. Подготовлены и вносятся предусмотренные этим договором законопроекты, в частности «Об основах ценообразования и организации контроля за ценами», который позволит создать правовую базу государственной ценовой политики в Россий-
ской Федерации. Законопроект направлен на нормализацию ценовых пропорций с целью обеспечения роста благосостояния граждан и производства отечественных товаров. В нем предусмотрены меры по пресечению недобросовестной ценовой конкуренции и защите потребителей от необоснованного повышения цен.
По инициативе депутата Олега Шеина фракция внесла альтернативный правительственному проект Жилищного кодекса Российской Федерации, который направлен на защиту прав жильцов, а не спекулянтов недвижимостью, как это сделано в подписанном президентом законе.
По важнейшим законодательным инициативам правительства фракция «Родина» вносила свои альтернативные предложения и поправки.
Из важных законодательных инициатив, подготовленных мною и другими депутатами нашей фракции, следует также отметить проекты законов:
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения эффективности денежной системы Российской Федерации». Этот законопроект содержит нормы, необходимые для широкого использования рубля в международных расчетах, в том числе по экспорту углеводородов, и придания рублю статуса международной валюты;
«О внесении изменений и дополнений в статью 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с целью придания русскому жестовому языку официального статуса»;
«О внесении дополнений в Федеральный закон «О естественных монополиях» (новая редакция);
«О защите прав потребителя услуг телефонной связи»;
«О социальном партнерстве государства и религиозных организаций»;
«Об основах социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы».
Депутаты фракции поддержали ряд важных законопроектов парламентской оппозиции, которые не были приняты Государственной думой, в том числе:
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Данным законопроектом предлагалось придать обязательный характер участию в совместных агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдумов в период предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума. При этом двукратный отказ без уважительной причины зарегистрированного кандидата, избирательного объединения от участия в совместных агитационных мероприятиях мог бы служить основанием для отмены регистрации кандидата (списка кандидатов);
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Законопроектом вводится норма, согласно которой к полномочиям органов государственной власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения будет относиться обеспечение выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами государственной власти субъекта Федерации стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг;
«О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». В законопроекте предлагалось придать свидетельству о рождении ребенка, родители или единственный родитель которого имеют российское гражданство, статус документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации.
Наша фракция поддержала законопроекты, внесенные другими субъектами законодательной инициативы:
«О внесении изменений и дополнений в Основы законодательства в Российской Федерации об охране здоровья граждан»;
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»» (о господдержке отдыха и оздоровления детей);
«О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»» (об уплате неустойки в виде пени);
«О государственном регулировании цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий»;
«О противодействии терроризму»;
«О политических партиях»;
«О государственном языке Российской Федерации»;
«О внесении изменений в статью 4 Закона РФ «О средствах массовой информации»» (в части ограничения показа сцен насилия и жестокости в электронных СМИ);
«О внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (об ответственности за незаконное распоряжение и использование инсайдерской информации);
«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) в общественных местах пива и напитков, изготавливаемых на его основе».
Из важных законопроектов, внесенных президентом и правительством, фракция «Родина» поддерживала только те из них, которые соответствовали нашему договору с избирателями, в том числе:
«О парламентском расследовании»;
«Об Общественной палате Российской Федерации»;
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
«Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности по беременности и родам граждан, имеющих детей»;
«О защите конкуренции»;
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Вместе с тем фракция «Родина» голосовала против законодательных инициатив власти, которые не соответствовали общенародным интересам, а также ущемляли права и интересы наших граждан. Среди них — законы об отказе федеральной власти от ответственности за обеспечение многих социальных гарантий, о снижении налогов на доходы богатых и повышении налогообложения имущества и доходов всех граждан, о приватизации недропользования, об отмене права палат Федерального Собрания самостоятельно избирать аудиторов и руководителей Счетной палаты, о референдуме, Лесной, Водный, Жилищный кодексы, поправки в избирательное законодательство, лишившие граждан права избирать губернаторов и своих представителей в Госдуму, отменившие в избирательном бюллетене графу «против всех», запретившие критику политических оппонентов в ходе выборных кампаний, отменившие порог явки на выборах.
Наша фракция не поддержала внесенный рядом депутатов и принятый Государственной думой закон «О внесении изменений в статьи 12 и 20 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Этим законом система свободных демократических выборов ректоров государственных или муниципальных вузов заменена системой фактического их назначения органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также вводится дополнительная к должности ректора новой административной должность президента высшего учебного заведения. Мы выступили против реформирования бюджетных учреждений с целью их коммерциализации, предложенного правительством в законопроекте о государственных автономных некоммерческих организациях.
Во многом благодаря принципиальной позиции фракции «Родина» удалось предотвратить принятие ряда наиболее одиозных инициатив партии власти. К примеру, депутат фракции «Единая Россия» А.А. Сигуткин, автор законопроекта «О знамени Победы», додумался до предложения изъять советскую символику — серп и молот — и заменить ее белой звездой. Думское большинство не только поддержало этот оскорбительный для граждан России, прежде всего для ветеранов Великой Отечественной войны, законопроект, но и преодолело вето Совета Федерации. После отклонения скандального закона президентом согласительной комиссии потребовалось всего два часа, чтобы прийти к «мировому соглашению». По уточненной формулировке вид копии (а не символа, как было в принятом Госдумой законе) Знамени Победы должен совпадать с видом самого Знамени.
Благодаря нашему политическому давлению удалось отменить направленные против граждан принятые думским большинством нормы жилищного, трудового и водного законодательства, добиться постепенного повышения минимального размера оплаты труда, восстановить ряд заслуженных льгот ветеранов.
РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯмИ
За годы работы в Государственной думе IV созыва в мой адрес поступило более 10 тысяч письменных обращений граждан, в том числе более 2 тысяч — от избирателей Подольского одномандатного округа. По ним делались соответствующие протокольные поручения Госдумы, а также было направлено более 500 депутатских запросов в различные инстанции, в том числе:
в Генеральную прокуратуру о нарушениях закона долж-
ностными лицами органов внутренних дел и прокуратуры г. Долгопрудного Московской области; в Генеральную прокуратуру по вопросам незаконно установленных турникетов «на выход» на московских вокзалах, через которые ежедневно вынуждены проходить тысячи людей; в прокуратуру Московской области по вопросам незаконной вырубки деревьев и начале строительства в парке д. Марушкино Наро-Фоминского района; в Роспотребнадзор по вопросу о защите жителей НароФоминска от произвола строительных компаний, ведущих строительство домов на их улицах; в Министерство обороны и Пенсионный фонд России по вопросам о зачете в общем трудовом стаже периода службы в воинских частях, а также нарушения закона «О статусе военнослужащих» в отношении военного пенсионера; в Министерство здравоохранения и социального разви-
тия по поводу недоступности медицинской помощи, отказов в бесплатном лечении и пр.
Ни одно обращение не оставлено без внимания. На каждое письмо дается письменный ответ с конкретными предложениями по решению поставленных проблем.
Мною регулярно ведется прием граждан, которые обращаются по самым разным вопросам: трудовые споры, в том числе несправедливые увольнения; неполучение полагающихся льгот; получение российского гражданства;
обман сельских жителей — владельцев земельных паев,
скупка у них паев по заниженным ценам; возврат дореформенных сбережений вкладчиков, а также
средств, вложенных в различные финансовые пирамиды; невозможность получения жилья гражданами, состоящи-
ми в очереди на жилье; невозможность погасить задолженность по оплате жилья
из-за нищеты и проживать в аварийных домах; незавершенное строительство домов, обман соинвесторов; недоступность медицинской помощи: отказы в бесплат-
ном лечении, огромные очереди за получением рецептов на бесплатные лекарства, получение рецептов на заменяемые лекарства, которые больным не подходят.
Многие граждане выражают свое недовольство законом 122-ФЗ о монетизации льгот, существующим уровнем пенсионного обеспечения, новым Жилищным кодексом.
Поступают письма от людей старшего поколения, добивающихся присвоения званий, дающих право на дополнительные выплаты, а также просьбы от малоимущих граждан об оказании содействия в получении финансовой помощи от региональных властей.
По решению поставленных гражданами вопросов велась работа с администрациями г. Подольска и Подольского района, г. Троицка и Наро-Фоминского района, с подольским Управлением социальной защиты населения. Работники этих органов власти оказывают содействие в решении проблем, с которыми ко мне обратились избиратели.
Конкретная помощь была оказана инвалидам различных категорий, военнослужащим по обращениям руководителей воинских частей гарнизонов, а также спортивным командам округа.
Решены вопросы многих граждан по установке телефонов, улучшению жилищных условий, переоборудованию железнодорожных платформ «Весенняя» и «Гривно» в г. Климовске, закрытию игорных заведений.
Многим из обращавшихся граждан была предоставлена юридическая помощь.
Была оказана поддержка в связи с обращением глав муниципальных образований по поводу Федеральной адресной инвестиционной программы, а также в связи с обращением депутатов горсовета и директоров предприятий по поводу решения городских проблем.
От избирателей поступает много обращений, в которых содержатся предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере государственного устройства, организации государственного управления, системы оплаты труда, признания работников бюджетной сферы государственными служащими, ответственности за непроведение или фальсификацию экологических экспертиз экономических проектов и др.
Предложения избирателей по изменению и дополнению законодательства учитываются в законотворческой работе фракции, направляются в профильные комитеты Государственной думы. В частности, на основе предложений граждан подготовлены законодательные инициативы по закону «О ветеранах», Жилищному кодексу Российской Федерации, по восстановлению льгот и другим вопросам.
ЕСЛИ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СНИЖАЕТСЯ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО УХОДИТЬ В ОТСТАВКУ
В соответствии с Договором с избирателями мною был внесен в Государственную думу проект федерального закона «Об ответственности органов федеральной исполнительной власти за обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на достойную жизнь и свободное развитие». После длительных проволочек 7 мая 2004 г. он был вынесен на рассмотрение Госдумы.
Стенограмма доклада на Пленарном заседании
Государственной думы
Уважаемые коллеги!
Коренной порок нашей политической системы — это отсутствие какой-либо ответственности органов государственной власти за социально-экономическое развитие страны, за результаты своей политики, за уровень жизни. И хотя наше государство считается социальным и в Конституции России записано, что каждый гражданин России имеет право на достойную жизнь и свободное развитие, в реальности нет ни одного нормативного акта, который бы определил, как это право должно быть реализовано, как заставить органы государственной власти работать в интересах простого человека.
Я думаю, никто в этом зале не сможет ответить на очень простой вопрос: за что отвечает российское правительство?
В разное время оно отвечало за совершенно разные вещи, причем само формулировало программы и оценивало результаты их выполнения, само себя хвалило без какого-либо учета и общественного мнения и позиции парламента. Отвечая за приватизацию, за либерализацию, за инфляцию, за погашение внешнего долга новая российская власть никогда не отвечала за реальный уровень жизни. Лишь в последнее время заговорили об удвоении объема производства в стране, о снижении бедности, как будто эти проблемы возникли сегодня. На самом деле это результат безответственной политики, которая проводилась все эти годы. До сих пор нам говорят о ее успехах, в то время как главный, ведущий показатель уровня жизни в стране — средняя продолжительность жизни населения — неуклонно снижается. Увеличивается количество преступлений, ухудшается состояние окружающей среды. Количество бедных варьируется в зависимости от того, как их считают органы статистики, и, несмотря на победные реляции правительства, подавляющее большинство граждан реального улучшения уровня жизни не чувствует.
Между тем очевидно, что целью любой разумной власти в демократическом правовом государстве должно быть повышение уровня жизни и благосостояния людей. Именно на устранение вакуума, который сложился в нашем законодательстве в отношении целей деятельности органов государственной власти, критериев их оценки, направлен данный законопроект. Он так и называется — «Об ответственности органов федеральной исполнительной власти за обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на достойную жизнь и свободное развитие».
В законопроекте впервые в нашей правовой практике вводится понятие «уровень жизни», раскрываемое системой из шестнадцати объективных показателей, вводится и процедура установления целевых ориентиров показателей уровня жизни. Эта процедура предполагает развертывание переговорных процессов согласования целевых показателей государственной политики между разными социальными группами, с разными интересами в лице представляющих их общественных организаций. В этой работе также участвуют органы государственной власти, политические партии. Она регламентируется в соответствии с действующей Конституцией нормативными актами президента России.
Поэтому, когда Правовое управление пишет, что законопроект якобы противоречит Конституции, я с этим не могу согласиться, потому что конкретная процедура определения показателей уровня жизни регламентируется президентом в соответствии с его полномочиями.
Очень важная в законопроекте норма касается системы мониторинга уровня жизни. У нас до сих пор нет сколько-нибудь развернутой системы статистических показателей оценки уровня жизни в стране. Создание такой системы в случае принятия настоящего законопроекта будет организовано через механизмы общественного контроля, что исключит возможность фальсификации статистических данных, которая, к сожалению, по оценке экспертов, сегодня имеет место.
Согласно законопроекту должен быть образован Совет Российской Федерации по уровню жизни, который формируется на четырехсторонней основе из представителей исполнительной власти, законодательной власти, профсоюзов и политических партий. Совет будет действовать на основе регламента, который утверждается актом президента России, что соответствует требованиям действующей конституции.
Законопроект не может прописать полностью весь механизм реализации соглашений по определению целевых показателей уровня жизни, потому что формирование программ социально-экономической политики, механизм их утверждения, а также внесения и принятия законов — это прерогатива соответствующих органов государственной власти, и именно на их усмотрение законопроектом возлагается принятие соответствующих государственных решений.
И самый важный вопрос — политическая ответствен ность органов государственной власти за уровень жизни в стране. Законопроект вводит норму, согласно которой за невыполнение или ненадлежащее выполнение соглашений по уровню жизни стороны политического процесса несут ответственность. Если в стране допускается снижение уровня жизни и не выполняются целевые нормативы повышения уровня жизни, которые установлены соответствующим соглашением, то правительство может быть отправлено в отставку. Это — функция президента, которая в данном законопроекте получает содержательное основание.
Законопроект не противоречит действующей Конституции, как кажется представителям правительства, судя по их отзыву. Он исходит из тех процедур ответственности правительства, которые установлены Конституцией. Снижение уровня жизни населения, невыполнение целевых ориентиров по повышению уровня жизни — это реальные критерии ответственности правительства, которые позволяют президенту объективно оценивать результаты его работы. Своя мера ответственности за невыполнение соглашения распространяется также и на других участников переговорных процессов, включая общественные организации.
Уважаемые коллеги, этот законопроект очень важен для формирования гражданского общества в нашей стране. Он необходим для того, чтобы наконец-то органы государственной власти начали отвечать за результаты своей работы. Об этом принципе ответственности власти за уровень жизни в стране на выборах говорили практически все политические партии. Я призываю поддержать эту законодательную инициативу в первом чтении с учетом того, что многие юридические нюансы мы сможем вместе доработать в ходе процедуры второго чтения[4].
СПАСЕм ЛИ РОССИю ОТ ВЫмИРАНИЯ?
О конкретных мерах по выходу из демографического кризиса
Начну с цитаты из первого президентского Послания Федеральному Собранию: «Россия — это прежде всего люди, которые считают ее своим домом… Однако сегодня в нашем доме далеко до комфорта». И пояснил: в доме этом «трудно жить». «Если верить прогнозам — а прогнозы основаны на реальной работе людей, которые в этом разбираются, — пояснил В.В. Путин, — уже через 15 лет россиян может стать меньше на 22 миллиона человек. Вдумайтесь в эту цифру: это — седьмая часть населения страны. Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня, — заключил президент, — демографическая ситуация — одна из тревожных».
Так оценивал сложившуюся ситуацию В. Путин, став в 2000 г. Президентом Российской Федерации. А какова она сейчас?
Развитие человеческого потенциала и рост народонаселения остаются для России важнейшими целями политики и необходимым условием сохранения страны. Демографические прогнозы исходят из того, что население России к 2050 г. может сократиться на 40 миллионов человек, причем за счет опережающего вымирания русских, которые могут оказаться «национальным меньшинством» в родной стране. Для нейтрализации этой угрозы необходима активная комплексная социальная политика государства, направленная на устранение причин демографической катастрофы и создание благоприятных условий для жизни и развития.
Основная причина вымирания нации — резкое ухудшение благосостояния и деморализация большей части населения, вызванные развалом государства и хищнической политикой разграбления страны. Значительное ухудшение уровня жизни и стремительное разрушение привычной жизненной среды вызвали утрату большинством граждан перспектив и даже смысла самой жизни, повергнув людей в состояние по стоянного психологического стресса от борьбы за выживание. В результате, с одной стороны, резко снизились рождаемость и средняя продолжительность жизни, с другой — выросла смертность, в особенности среди мужчин трудоспособного возраста.
При нынешней структуре распределения национального дохода только каждый третий ребенок получит хорошее образование и преуспеет в жизни. Две трети детей обрекаются на жалкое существование. Очевидно, что до тех пор, пока такая политика будет продолжаться, демографический кризис будет обостряться.
Для выхода из этого тупика требуется кардинальное изменение государственной политики — в направлении повышения уровня жизни народа. Для этого необходимо принять решения, затрагивающие интересы женщин, детей, лиц пожилого возраста и защищающие здоровье нации.
Первое. Общество не может быть здоровым и благополучным, если женщина играет второстепенную, подчиненную роль в общественной жизни, на производстве, в семье. Чтобы защитить права женщин и создать возможности для их обеспечения, государство должно:
- обеспечивать свободный доступ женщин к высшему и профессиональному образованию, повышению квалификации, участию в управлении;
- защищать права беременных женщин и женщин-матерей в трудовой деятельности, в сферах здравоохранения и образования, в жилищных и имущественных вопросах;
- защищать права родителей, обремененных семейными обязанностями, при приеме на работу, при установлении условий и режима труда, а также при увольнении.
Второе. Крепкая, дружная, благополучная семья — необходимая предпосылка здорового общества и залог будущего нации. Такая семья — опора государства. Чтобы достичь этого, надо в первую очередь обеспечить:
- доступность для каждой семьи качественных услуг здравоохранения и образования, создание возможностей для приобщения к ценностям духовной культуры;
- доступность благоустроенного жилья, особенно для молодых семей;
- увеличение пособий при рождении или усыновлении ребенка до уровня не ниже минимальных расходов на приобретение детского приданого, а также выплата пособия по уходу за ребенком в размерах не менее прожиточного минимума.
Третье. Дети — это будущее страны. Приоритетами для государства должны быть:
- обеспечение права каждого ребенка на семейное воспитание, профилактика социального сиротства посредством развития и совершенствования института усыновления;
- государственное субсидирование приемных детей, опекунских семей и семейных групп на уровне не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка;
- бесплатная медицинская помощь и лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет;
- первоочередное финансирование федеральных и региональных программ, направленных на охрану здоровья, обеспечение образования и развития детей, производство детского питания и лекарств для детей;
- развитие сети доступных для всех семей детских дошкольных учреждений, спортивных школ, творческих студий, летних лагерей; обеспечение условий для нормального отдыха и досуга детей.
Четвертое. До последнего времени в стране действовала система социальных гарантий, сформировавшаяся в основном в дореформенный период и дополненная в наиболее тяжелый период реформ в целях предотвращения физического вымирания нетрудоспособного населения. Далеко не все эти социальные гарантии были подкреплены соответствующим финансированием, но их наличие позволяло нуждающимся пожилым людям отстаивать свои права. Были предложения ликвидировать нехватку средств на исполнение социальных обязательств государства путем увеличения доходов бюджета за счет принадлежащих государству, но используемых в частных интересах источников. Но нынешняя государственная власть поступила иначе — ликвидировала большую часть социальных гарантий, отчасти заменив их незначительными денежными компенсациями или передав вопрос об их финансиро вании на усмотрение субъектов Федерации.
Я расцениваю проводимую нынешней властью полити ку как антиконституционную, подрывающую фундаменталь ные основы социального государства. Необходимо восстановить отмененные гарантии и законодательно установленные нормативы финансирования социальной сферы, одновременно увеличив государственные доходы за счет принадлежащих государству источников без увеличения налогов на труд, доходы и имущество граждан.
В первую очередь должны быть восстановлены права ветеранов и инвалидов на льготное медицинское обслуживание и бесплатное предоставление жизненно необходимых лекарств.
Особое значение для пожилых людей имеет пенсионное обеспечение, которое сегодня реформируется без учета обязательств, взятых на себя государством в период трудовой деятельности нынешних пенсионеров. Предложенная правительством пенсионная реформа не обеспечивает надежную защиту прав и интересов как нынешних, так и будущих российских пенсионеров. Очевидно отставание размеров пенсий от прожиточного минимума.
Не дожидаясь осуществления перечисленных мер, следует предпринять действия, необходимые для защиты прав пожилых людей в рамках действующей системы пенсионного обеспечения. В частности, необходимо как минимум двукратное повышение пенсий, их индексация с учетом динамики прожиточного минимума пожилых людей.
Пятое. Здоровье и долголетие населения — важнейшая характеристика эффективности любой социально-экономической системы, один из главных ориентиров при определении содержания государственной политики, критериев оценки деятельности власти.
Следует конкретизировать в законодательстве конституционное право каждого гражданина России на защиту здоровья — независимо от уровня его личных доходов. Для решения этой задачи необходимо развитие системы медицинского обслуживания и здравоохранения, которая должна включать:
- государственные медицинские учреждения, бесплатно оказывающие населению необходимую помощь на уровне ми ровых стандартов;
- систему надежного обеспечения населения доброкачественными лекарствами по справедливым ценам.
Сложившаяся ситуация требует безотлагательного решения. В 2005 г. мною был разработан и предложен к рассмотрению Государственной думой проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях сохранения народонаселения Российской Федерации». Этот законопроект был разработан в соответствии с решением фракции «Родина» о законодательной поддержке положений президентского Послания Федеральному Собранию 2006 г. о мерах по преодолению демографического кризиса. Вместе с ним нами был подготовлен и внесен законопроект, направленный на создание условий для решения еще одной задачи, поставленной в этом Послании, — расширения использования рублей в международных расчетах. Хотя оба этих законопроекта были проигнорированы партией власти и отвергнуты правительством вопреки положениям президентского Послания, ниже приводятся пояснительные записки, раскрывающие их суть.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях сохранения народонаселения Российской Федерации»[5]
С целью создания необходимых правовых условий для материального обеспечения детей, защиты их прав, формирования благоприятной нравственной и социально-экономической среды формирования и развития многодетных семей настоящий проект федерального закона предусматривает:
— приведение величины детских пособий и ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в соответствие с прожиточным минимумом;
— введение разовых денежных выплат в связи с рожде нием ребенка, используемых целевым образом для приобре тения жилья, расходов на образование ребенка, взноса в накопительную часть пенсии матери;
— принятие на федеральном уровне обязательств по выплате детских пособий и ежемесячных пособий на период отпуска по уходу за ребенком, единовременных денежных выплат;
— восстановление научно обоснованных нормативов финансирования образования и науки;
— введение общегосударственной ответственности за финансирование расходов на народное образование;
— запрещение рекламы абортов;
— приведение минимальной оплаты труда в соответствие с прожиточным минимумом;
— признание восстановления дореформенных сбережений граждан долговым обязательством государства.
В условиях несбалансированности бюджетной системы Российской Федерации необходимый уровень финансирования детских пособий, расходов на образование и социальную помощь может быть обеспечен только за счет доходов консолидированного бюджета. У большинства регионов нет достаточных источников доходов для финансирования на должном уровне расходов на народное образование, детские пособия и социальную помощь нуждающимся. В России сложилась фактическая дискриминация граждан в уровне социальных гарантий по месту жительства, что противоречит Конституции страны. Вместе с тем — вследствие переноса ответственности за финансирование основной части социальных расходов с федерального уровня на уровень субъектов Федерации — недостаток средств у последних сопровождается огромным профицитом федерального бюджета. Фактически этот профицит возник как результат недофинансирования социальных расходов. Об этом же свидетельствует сопоставление структуры федерального бюджета России с соответствующими среднемировыми показателями.
Исходя из сложившихся диспропорций бюджетной системы России, финансирование мер поддержки рождаемости: введение в оборот материнского сертификата за рождение ребенка, увеличение ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, установление размера ежемесячного пособия на ребенка в размере прожиточного минимума — предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета. Для решения задачи предоставления всем детям равных гарантированных государством возможностей получения современного образования предлагается ввести единые во всей Российской Федерации нормативы финансирования учреждений образования с солидарной ответственностью всех уровней власти за их обеспечение, а также определить минимально допустимые уровни расходов государства на цели образования, здравоохранения, культуры и науки.
Учитывая, что главной материальной причиной снижения рождаемости является крайне низкая оплата труда российских граждан (вследствие чего 80% семей с двумя и более детьми имеют среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума), вчетверо заниженная по сравнению с уровнем развитых стран, принципиальным условием для преодоления демографического кризиса является повышение минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Законопроектом вводится необходимая для этого поправка в Федеральный закон № 122-ФЗ от 22.08.2004 г.
Законопроект предусматривает осуществление всех перечисленных выше мер стимулирования рождаемости начиная со следующего бюджетного года, а мер по выплате ежемесячных детских пособий по уходу за ребенком до 1,5 года и единовременных денежных выплат в связи с рождением ребенка — с 1 июля 2006 г. Соответствующее увеличение расходов планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета (в том числе дополнительных расходов федерального бюджета в текущем году), что приведет к соответствующему снижению профицита федерального бюджета. При этом доля расходов на развитие человеческого потенциала в структуре государственных расходов федерального правительства приблизится к среднемировому уровню.
Для преодоления демографического кризиса важно создать условия для обустройства молодых семей, включая приобретение ими жилья за счет доступных ипотечных кредитов. Действующие в настоящее время механизмы государственной поддержки ипотечного кредитования крайне незначительны и не оказывают заметного влияния на снижение ост роты жилищной проблемы. Необходимо многократное увели чение средств, выделяемых государством на субсидирование ипотечных кредитов, предоставление гарантий по их выделению с целью резкого снижения процентных ставок и увеличения сроков предоставления ссуд. Целесообразно направить на эти цели часть средств Стабилизационного фонда, а также создать правовые возможности его использования для привлечения долгосрочных инвестиций в развитие российской экономики.
Важнейшим условием повышения продолжительности жизни, снизившейся за годы реформ в России до одного из самых низких показателей в мире, является устранение причин тяжелейшего психологического стресса, вызванного многократным обеднением и ухудшением уровня жизни населения вследствие утраты гражданами дореформенных сбережений по вине государства. Их восстановление по реальной покупательной стоимости является обязанностью государства, подтвержденной решением Конституционного суда. После погашения основной части внешнего долга и при наличии значительного объема накопленных государством денежных резервов дальнейшее игнорирование необходимости решения этой задачи представляется социально несправедливым и противозаконным. Законопроектом предусматривается введение поправок в Бюджетный кодекс, предусматривающих признание восстановления дореформенных сбережений граждан долговым обязательством государства, подлежащим обслуживанию и погашению за счет средств федерального бюджета, в том числе накопленных в Стабилизационном фонде. Скорейшее восстановление дореформенных сбережений граждан позволит преодолеть неуверенность граждан в завтрашнем дне, их недоверие к государству, создать благоприятный социально-психологический климат, способствующий повышению рождаемости и продолжительности жизни.
Важное значение для преодоления демографического кризиса имеет создание должного общественного мнения в отношении абортов, являющихся, по сути, легализованным убийством неродившихся детей. Для этого необходимо запретить рекламу абортов.
Принятие данного законопроекта гарантирует всем де тям России, вне зависимости от места жительства, минималь но необходимый уровень жизни, образования и социальной помощи, а также будет способствовать повышению уровня жизни населения, созданию психологической атмосферы доверия граждан к государству, их уверенности в завтрашнем дне. Это позволит создать условия для преодоления кризиса рождаемости, восстановления нормальной продолжительности жизни, гарантировать каждому российскому ребенку право на достойную жизнь.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения эффективности денежной системы Российской Федерации»
Данный законопроект подготовлен с целью создания необходимых правовых условий для использования российских рублей в международных расчетах и вытеснения иностранной валюты из денежного обращения в России, что позволит расширить возможности кредитования российской экономики, снизить издержки обращения, повысить устойчивость и эффективность денежной системы Российской Федерации. Он включает поправки в закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также в Закон Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» и закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в части введения новых правовых норм об обязательной продаже добываемой в России нефти и газа за рубли, в том числе через товарную биржу.
1 Законопроект внесен С.Ю. Глазьевым на рассмотрение Государственной думы 4 октября 2006 г. — Ред.
Поправки в Федеральный закон «О валютном регулиро вании и валютном контроле» предусматривают снятие огра ничений на использование рублей в международных расчетах, прекращение использования иностранной валюты в кредитно-сберегательных операциях на внутреннем рынке, а также переход к обязательной продаже всей валютной выручки от экспортных операций на внутреннем рынке. Принятие этих норм существенно повысит привлекательность использования рубля в качестве средства платежа при осуществлении внешнеторговых, а также трансграничных операций движения капитала, так как освободит хозяйствующих субъектов от необходимости резервирования значительной части средств. Операции, совершаемые в рублях, не будут рассматриваться как валютные операции, что освободит использующих их хозяйствующих субъектов от ограничений валютного контроля значительными трансакционными и административными издержками, повысит конкурентоспособность российского экспорта. Одновременное прекращение использования иностранной валюты в кредитно-депозитных операциях между резидентами резко повысит востребованность рублей и в кредитных операциях, и как средства сбережения. Это будет способствовать ремонетизации российской экономики и повышению устойчивости национальной денежной системы.
С принятием предлагаемых мер у хозяйствующих субъектов исчезает необходимость в накоплении средств в иностранной валюте, а также в привлечении кредитов в иностранной валюте. Соответственно неоправданным становится сохранение частичной продажи валютной выручки экспортеров. Вся она должна продаваться на внутреннем рынке, что закрепит предпочтительность использования рублей в международных расчетах, обеспечит необходимую для устойчивости рубля емкость внутренней валюты и повысит надежность российской валютно-денежной системы.
В комплексе предлагаемые меры позволят восстановить в полном объеме функции национальной валюты, резко снизить валютные риски, провести дедолларизацию российской экономики и кардинально повысить устойчивость национальной денежной системы. Рубль станет наиболее предпочтительной валютой для российских хозяйствующих субъектов, у которых появляется реальная заинтересованность в использова нии рубля при проведении внешнеэкономических операций. При этом резко возрастет спрос на рубли и снизится спрос на иностранную валюту — как на внутреннем рынке, так и при осуществлении международных операций. Это потребует существенного изменения денежно-кредитной политики Центробанка в организации денежного предложения.
Наряду с проводимой сегодня денежной эмиссией под приобретение иностранной валюты Центробанку банку необходимо будет освоить другие общепринятые в мировой практике механизмы денежного предложения, используемые для удовлетворения спроса на деньги в растущей экономике. Необходимым условием успешного развития российской экономики в условиях острой глобальной конкуренции является создание достаточно мощных и устойчивых каналов долгосрочного кредитования платежеспособных предприятий, что предполагает ремонетизацию российской экономики и существенное расширение ее кредитно-денежных ресурсов. Поэтому предлагаемые меры по вытеснению иностранной валюты и созданию условий для использования рубля в международных расчетах должны быть дополнены соответствующими изменениями в денежно-кредитной политике государства с целью своевременного и адекватного удовлетворения спроса на деньги в растущей экономике. Это предполагает расширение целей деятельности Центрального банка, перечень которых должен быть дополнен созданием благоприятных условий для кредитования производственной и предпринимательской деятельности, обеспечением занятости населения, повышением конкурентоспособности российской экономики.
Предлагаемые настоящим законопроектом снятие ограничений на использование рублей в международных расчетах и вытеснение иностранной валюты из сектора внутренних кредитно-депозитных операций повлекут переориентацию хозяйствующих субъектов на использование национальной валюты как во внутренних, так и во внешнеэкономических операциях. Для скорейшего завершения этого процесса и минимизации рисков переходного периода, для придания большей устойчивости национальной валютно-финансовой системе законопроектом предлагается ввести норму, устанавливающую
продажу сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа за рубли. Это обеспечит заинтересованность основных внешнеторговых партнеров России в создании необходимых условий для использования рублей в международных расчетах со своей стороны, включая открытие рублевых корреспондентских счетов в российских банках, а также формирование рублевых резервов. При этом для обеспечения устойчивости и международного признания обоснованности ценообразования на российскую нефть целесообразно организовать биржевой механизм ее реализации за рубли. Производителей сырой нефти предлагается обязать не менее 30% продаваемой ими нефти реализовывать через товарные биржи.
Принятие предлагаемого федерального закона особенно актуально в условиях нарастающей дестабилизации мировой финансовой системы. Переход к широкому использованию рублей в международных расчетах снимет излишние валютные риски с российских экспортеров. В целом принятие данного законопроекта позволит существенно снизить трансакционные издержки, кардинально повысить устойчивость российской денежной системы, расширить возможности кредитования роста российской экономики, поднять ее конкурентоспособность.
мЫ СДЕЛАЛИ СВОЕ ДЕЛО
— Завершается срок работы нынешней Государственной думы. Что удалось сделать представителям избирательного блока «Родина» в парламенте?
— Мы честно выполняли свои обязательства, установленные нашим договором с избирателями. В его исполнение мною и другими депутатами фракции «Родина» были подготовлены и внесены на рассмотрение парламента около двухсот законодательных инициатив. Важнейшие из них были связаны с изъятием природной ренты в бюджет государства, переходом к политике экономического роста на основе стимулирования инвестиционной и инновационной активности, повышением оплаты труда, обеспечением социальных гарантий, введением механизмов ответственности власти перед обществом.
К сожалению, далеко не все из наших законодательных инициатив были приняты. Так, думское большинство — «Единая Россия» и ЛДПР — заблокировало принятие внесенных нами законопроектов «Об ответственности органов федеральной исполнительной власти за обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на достойную жизнь и свободное развитие», «О ценообразовании», «О мерах по сохранению народонаселения» и «О мерах по укреплению денежной системы». Они сорвали рассмотрение внесенного нами в альтернативу правительственному варианту Жилищного кодекса, выступив на стороне коммунальных монополий против жителей. «Единая Россия» последовательно противодействовала внесению нами законопроектов, направленных на повышение оплаты труда, детских пособий, пенсий и стипендий.
Позже, правда, по настоянию президента партия власти вынуждена была согласиться со многими нашими предложениями в области жилищного и трудового законодательства, пенсионного обеспечения, повышения оплаты труда, поддержки материнства и детства. Но в целом политика власти не изменилась — все эти годы она направлялась интересами олигархического капитала, монополий, коррумпированной бюрократии в ущерб общенародным интересам. Были упущены колоссальные возможности перехода страны на инновационный путь развития, кардинального повышения уровня жизни народа и конкурентоспособности экономики. Мы могли бы жить сегодня вчетверо лучше и развиваться вдвое быстрее, если бы власть смогла и захотела реализовать нашу программу социальной справедливости и экономического роста. Для этого мы ежегодно предлагали правительству свою концепцию бюджетной и денежно-кредитной политики, которая демонстративно игнорировалась.
— И все же, что реально вам удалось провести в жизнь?
— Самое главное — заставить власть вернуть природную ренту в доход бюджета. Сегодня за счет экспортных пошлин на вывоз энергоносителей и сырьевых товаров, введенных впервые по моей инициативе еще в 1992 г., налогообложения добычи полезных ископаемых, других платежей за пользование природными ресурсами федеральный бюджет получает более половины своих доходов. Но лишь с будущего года правительство согласилось с нашими настойчивыми требованиями направить эти огромные средства на нужды развития страны. До этого они шли на погашение внешнего долга и предоставление кредитов странам НАТО на покрытие их бюджетного дефицита.
Несмотря на противодействие партии власти, мы сделали свое дело — заставили эту власть не только вернуть сверхприбыли от экспорта нефти и газа в казну, но и использовать эти деньги на цели социально-экономического развития. Сегодня реализуются наши старые предложения о создании мощного Банка развития, развертывании целевых программ для решения ключевых задач развития страны, проведении активной промышленной политики. На эти цели в ближайшие полтора года будет выделено свыше триллиона рублей. А ведь еще пять лет назад нынешние министры категорически отрицали необходимость этих мер, начав свою деятельность с отмены Бюджета развития и Банка развития, свертывания целевых программ и дерегулирования экономики. Жаль только бездарно потраченного правительством времени — слишком дорого обходится стране переобучение наших министров, исповедующих вульгарно-либеральную доктрину рыночного фундаментализма.
— Но все же вам удалось добиться смены курса экономической политики в интересах развития страны?
— Лишь частично. Президент в своем последнем Послании Федеральному Собранию объявил о мерах по развитию промышленности, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, созданию институтов развития, освоению прорывных направлений НТП, которые мы последовательно предлагали многие годы в своих альтернативных концепциях бюджетной политики. До этого были реализованы некоторые из предлагавшихся нами мер по преодолению вырождения нации. За счет возвращения природной ренты в бюджет возможности государства увеличились более чем вдвое. Но уровень жизни остается удручающе низким. Уровень оплаты труда и финансирования социальных расходов у нас вдвое ниже среднемирового. Уже почти все бывшие союзные республики привели минимальную оплату труда в соответствие с прожиточным минимумом, а наше правительство заявляет о невозможности это сделать в текущем десятилетии. При огромных доходах от экспорта нефти и газа средняя зарплата работников бюджетных учреждений остается ниже уровня бедности — с нынешних 6242 рублей в месяц правительство планирует ее повысить до 7600 рублей в 2010 г. С учетом планов правительства по либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию, которые, несомненно, подстегнут инфляцию, реальные доходы учителей, врачей, работников культуры в предстоящие три года снизятся.
— Что вы думаете делать по изменению этой ситуации?
— Продолжать нашу работу по изменению курса социально-экономической политики в соответствии с нашей программой. В своих предложениях к проекту бюджета и прогнозу развития страны до 2010 г. мы настаиваем на кардинальном повышении эффективности мер по развитию промышленности и стимулированию НТП, обосновывая двукратное повышение темпов экономического роста. Одновременно мы показываем возможность не менее чем двукратного повышения оплаты труда, прежде всего — работникам образования, здравоохранения, науки и культуры, которые определяют будущее нашей страны. Настаиваем на срочных мерах по декриминализации рынка и демонополизации экономики, очищению государственного аппарата от коррупции.
— Но ведь избирательного блока больше нет? Кто это будет делать?
— К сожалению, нам не удалось сохранить единство. Мы могли бы добиться много большего, оставаясь вместе, и претендовать на признание не менее чем половины избирателей. Оставаясь в меньшинстве, мы вряд ли сможем изменить спланированную до 2010 г. бюджетную политику правительства в их же интересах. Остается надежда на то, что партии, претендующие на продолжение нашего общего дела, сумеют завоевать доверие народа. Если «Справедливой России» и «Патриотам России» удастся в сумме набрать более половины голосов избирателей, то наша программа будет реализована.
Я уверен, что думающих людей можно убедить проголосовать за свои собственные и общенародные интересы. Конечно, находясь в одном избирательном объединении левых и патриотических сил, сделать это было бы легче. Если бы наш
блок не разрушили, он мог бы победить на предстоящих выборах в Госдуму. Но власть боится широкой народно-патриотической коалиции, способной объединить общество. Именно поэтому и был уничтожен Народно-патриотический союз «Родина». Но дело наше живет, и я уверен, победит. Надеюсь, что «Патриотам России», «Справедливой России», КПРФ, другим общественным и политическим организациям народно-патриотических сил удастся сформировать широкую политическую коалицию, способную заставить нашу государственную машину повернуть на путь успешного социально-экономического развития в общенародных интересах.
Опубликовано в журнале «Русский дом» (2007, июль)
Часть III
за дОстОйную жизнь
У нашего народа есть все возможности жить достойно, в соответствии со стандартами уровня жизни населения развитых стран и согласно нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. Но для этого граждане России должны проявить политическую волю в борьбе за собственные и общенародные интересы. Эти интересы противоположны интересам властвующей олигархии, паразитирующей на эксплуатации национальных богатств и незаконном присвоении большей части национального дохода. В конфликте интересов стоящие у кормила государственной власти лица фактически потворствуют олигархии, проводя политику «статус-кво». Это объективная реальность, обусловленная самим появлением нынешней власти из корня ельцинской плутократии, выросшей на развале СССР, насильственной узурпации власти и разграблении самой богатой в мире страны.
Вместе с тем наша страна еще достаточно богата, чтобы успешно и самостоятельно развиваться, гарантировать своим гражданам достойный уровень жизни. О том, что для этого нужно сделать, и пойдет речь ниже.
Основная составляющая этой части — программа социально-экономического развития России, названная нами «Социальная справедливость и экономический рост». Ее главные положения разделяют все ведущие политические и общественные организации народно-патриотической направленности. Разработанная с учетом рекомендаций ведущих институтов и ученых Российской академии наук, поддержанная объединениями отечественных товаропроизводителей, эта программа готовилась в качестве платформы для объединения всех патриотических сил в единую коалицию Народно-патриотического союза России и затем легла в основу программы избирательного блока Народно-патриотический союз «Родина». Ее обновленная в результате всероссийского обсуждения редакция принята в качестве программы общественной организации «За достойную жизнь», образованной сторонниками Народно-патриотического союза «Родина» после президентских выборов. Эта программа является общенациональной программой действий, вокруг которой могут объединиться все народно-патриотические силы в преддверии парламентских и президентских выборов.
Наряду с текстом программы в эту часть включены мои статьи по ключевым вопросам ее реализации, а также важнейшие решения общественной организации «За достойную жизнь».
ОСТАНОВИм ГЕНОЦИД, ЗАЩИТИм СВОЕ ПРАВО
НА ДОСТОйНУю ЖИЗНЬ
Заявление Исполкома Общероссийской общественной организации «За достойную жизнь!» от 3 августа 2004 г.
Партия власти подтвердила продолжение политики геноцида народа России и разграбления страны, проголосовав в первом чтении за проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части приведения федерального законодательства, регулирующего полномочия органов власти всех уровней, в соответствие Федеральному закону №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. (так называемый закон о монетизации льгот).
Принятие думским единороссовским большинством в первом чтении законопроекта, отменяющего 41 федеральный закон и изменяющего 155 законодательных актов, определяю-
щих социальные обязательства государства, не оставляет сомнений в истинных целях партии власти.
Не прошло и месяца после торжественного оглашения вновь переизбранным Президентом Российской Федерации Послания Федеральному Собранию, в котором повышение уровня жизни народа было провозглашено в качестве главной цели политики власти, как правительство внесло в парламент законопроект, отменяющий последние социальные обязательства государства и лишающий 30 миллионов человек, находящихся в самом уязвимом положении, гарантий на получение жизненно необходимых им благ. Лишая ветеранов войны и труда заслуженных и заработанных ими социальных льгот, отказывая инвалидам в гарантированном обеспечении бесплатными лекарствами, лишая семьи с детьми гарантированных детских пособий, ликвидируя профессиональные льготы работникам социальной сферы и военнослужащим, правительство Путина и прислуживающая ему «Единая Россия» фактически совершают антиконституционный переворот, грубо нарушая положения Основного закона о социальном государстве, о недопустимости дискриминации граждан и принятия законодательных актов, ухудшающих условия жизни народа. Законопроект ухудшает условия жизни 9,3 млн. ветеранов труда и около миллиона ветеранов войны, 9,5 млн. тружеников тыла, 10,5 млн. инвалидов, около 20 млн. детей, 1,3 млн. пострадавших от радиационных воздействий, 1,8 млн. жертв политических репрессий, а также миллионов граждан, работающих в сельской местности и районах Крайнего Севера, и специалистов, занятых в социальной сфере, правоохранительных органах и вооруженных силах.
Предлагаемые властью денежные компенсации лишь частично и далеко не всем лишаемым социальных гарантий группам населения заменяют отменяемые социальные обязательства. Ветераны войны, инвалиды, жертвы радиационных катастроф получат право на денежные компенсации, не превышающие 1/4 отменяемых социальных льгот и гарантий; остальным федеральная власть предлагает обращаться в органы власти субъектов Федерации, у большинства из которых нет необходимых источников дохода для финансирования отменяемых федеральных социальных обязательств.
За первый срок правления В.В. Путина граждан России лишили права на бесплатное использование земли (теперь, согласно Земельному кодексу, ее необходимо приватизировать и платить налог на имущество по рыночной стоимости или оформлять в аренду), на достойную заработную плату и эффективную защиту своих интересов при найме на работу (которые Трудовым кодексом принесены в жертву алчности получателей прибавочной стоимости), на тепло и электроэнергию (которые теперь можно произвольно отключать за чью-то неуплату) и даже на чистый воздух, который теперь можно безгранично загрязнять, не обременяя себя платежами за нанесение экологического ущерба (после фактической отмены платежей за загрязнение окружающей среды). Зато олигархи получили право беспрепятственно и без ограничений вывозить из России капиталы в любых формах и объемах, присваивая себе сверхприбыли от использования принадлежащих государству природных ресурсов и неоплаченный не менее чем наполовину продукт труда российских граждан.
За первые месяцы после переизбрания В.В. Путина на второй срок граждан лишили гарантированного государством права на жилье. Людей, ставших по вине государства бедняками и не имеющих средств на оплату раздутых коммунальных тарифов, теперь можно вышвыривать из квартир, в то время как олигархам, паразитирующим на присвоении сверхприбылей от эксплуатации государственных природных ресурсов, разрешено и далее оставлять природную ренту на своих зарубежных счетах.
Вопреки закрепленным в конституции принципам социального государства, предусматривающим достойное вознаграждение за труд, законопроектом фактически отменяется государственное регулирование заработной платы. Отменяются законодательно установленные механизмы определения прожиточного минимума и госрегулирования минимальной заработной платы, так же как и фундаментальный для социального государства принцип их соответствия. Фактически это означает правовое закрепление нынешнего крайне низкого уровня заработной платы, многократно заниженного по отношению к вкладу труда в национальный доход и мировым стандартам. То же касается и крайне низкого уровня пенсий, величина которых привязана к уровню зарплаты.
С учетом отменяемых социальных гарантий и обязательств государства, а также планируемых правительством мер по налогообложению недвижимости (гражданам придется платить налог с рыночной стоимости приватизированных квартир и земельных участков), быстрого роста тарифов на электроэнергию, тепло и транспорт вследствие «реформирования», а по сути — приватизации естественных монополий, половине граждан власть оставляет небольшой выбор: медленно умирать либо от невозможности приобретения лекарств, либо от выселения на улицу и замерзания, либо от недоедания.
Отменяя социальные обязательства, власти предержащие ссылаются на отсутствие денег для их финансирования, утверждая, что объем планируемых денежных компенсаций намного превышает бюджетные ассигнования, выделявшиеся ранее на финансирование льгот. Это лукавство, призванное скрыть реальные последствия проводимого антисоциального государственного переворота. Согласно заключению Счетной палаты, пытавшейся выяснить, сколько реально планируется правительством выделить денег на компенсацию отменяемых социальных гарантий и льгот, «в связи с неопределенностью размеров выплат оценить объем необходимых ресурсов федерального бюджета на эти цели не представляется возможным». В действительности большая часть социальных обязательств отменяется без гарантий их компенсации, так как оставляется на усмотрение субъектов Федерации и правительства без указания источников финансирования.
Между тем источники финансирования отменяемых социальных обязательств и гарантий имеются. Только сверхприбыль от использования принадлежащих государству недр и других природных ресурсов составляет более 1,5 трлн. рублей ежегодно. Она оседает в карманах олигархов и коррумпированных чиновников, круговая порука которых не позволяет принять давно внесенные в Государственную думу законы о возврате природной ренты государству как собственнику недр. Государство теряет сотни миллиардов рублей доходов от вывозимого из страны капитала, отказываясь от валютного контроля. Не меньшие доходы от денежной эмиссии Центрального банка и деятельности принадлежащих государству коммерческих банков уплывают мимо государственного бюд-
жета. Нелегальный оборот алкоголя и отмена платежей за загрязнение окружающей среды лишают государство десятков миллиардов рублей ежегодных доходов.
При должном отношении государственной власти к своим обязательствам можно было бы найти средства для финансирования всех предлагаемых к отмене социальных обязательств государства. Для этого нужно принять законопроекты о налоге на дополнительный доход недропользователей, внести изменения в законы о валютном контроле и о Центральном банке, внедрить систему автоматизированного учета производства и оборота алкогольной продукции, восстановить платежи за загрязнений окружающей среды и принять другие хорошо известные меры, многократно предлагавшиеся народно-патриотическими силами.
Правительство и думское большинство отменяют социальные гарантии и обязательства государства не потому, что у него нет источников доходов. А потому, что эти принадлежащие всему обществу источники находятся под контролем группы приближенных к власти лиц и используются в частных интересах паразитирующей на них олигархии и обслуживающих ее коррумпированных чиновников. Своими решениями президент, его правительство и правящая партия «Единая Россия» объективно закрепляют это несправедливое распределение национального дохода, жертвуя ради сохранения сверхприбылей олигархов социальными гарантиями, общенародными правами и национальными интересами. Десятки миллионов человек лишаются своих законных социальных прав ради сохранения олигархической верхушкой привилегии бесконтрольно эксплуатировать общенародные природные ресурсы и другие государственные источники доходов и вывозить миллиарды долларов за рубеж.
У нас нет больше доверия к президенту, который обещает проведение политики повышения уровня жизни, а его правительство и правящая партия отменяют последние социальные обязательства и гарантии государства. У нас нет доверия к правительству, которое попустительствует использованию принадлежащих государству источников дохода в частных интересах и отказывается выполнять законом установленные обязательства перед обществом. У нас нет доверия к Государственной думе, большинство которой составляет лицемерная партия власти «Единая Россия», цинично нарушающая свои предвыборные обязательства о защите прав граждан на труд, жилище, социальную защиту, забыв о своих обещаниях по повышению зарплат, пенсий, стипендий, детских пособий. У нас нет доверия к этой людоедской власти, продолжающей ельцинскую политику геноцида и разграбления страны.
Мы призываем граждан взять защиту собственных законных интересов в свои руки, отстоять свое конституционное право на достойную жизнь, свои социальные права и гарантии, противостоять антисоциальному государственному перевороту путем проведения общероссийского референдума «За достойную жизнь», решения которого будут обязательными для государства.
Мы предлагаем вынести на общенародный референдум следующие вопросы, направленные на утверждение социальных гарантий и обязательств государства, которые необходимы для осуществления нашего конституционного права на достойную жизнь и от которых нынешняя власть пытается отказаться.
Согласны ли Вы…
- С сохранением социальных гарантий, льгот и обязательств, установленных федеральными законами Российской Федерации по состоянию на 1.07.2004 г.?
Положительный ответ на данный вопрос будет означать восстановление всех социальных гарантий и обязательств государства, отменяемых правительственным законопроектом, и, следовательно, отмену его самого.
- С установлением минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума?
Положительный ответ на данный вопрос будет означать восстановление обязанности государства по регулированию заработной платы и пенсий, минимально допустимый уровень которых не должен быть ниже прожиточного минимума.
- С тем, что недра, земли лесного фонда, атомные и гидроэлектростанции, железные дороги, линии электропередач, магистральные трубопроводы должны находиться исключительно в государственной собственности, а прибыль от их эксплуатации в части, превышающей среднюю норму прибыли в промышленности, должна облагаться дополнительным прогрессивным налогом?
Положительный ответ на данный вопрос будет означать не только сохранение в государственной собственности важнейших природных ресурсов и объектов инфраструктуры, многие из которых планируется приватизировать, но и использование важнейшего механизма возврата природной ренты в доход государства путем введения налога на дополнительный доход недропользователей и платежей за использование гидроэнергетических ресурсов, что даст бюджету не менее 300 млрд. рублей дополнительных доходов, необходимых для финансирования предлагаемых правительством к отмене социальных обязательств.
- С восстановлением права бесплатного бессрочного использования земельных участков: для граждан — под жилыми домами, дачами, садовыми и
приусадебными участками; для религиозных организаций — под культовыми здания-
ми, сооружениями и прилегающими к ним территориями; для организаций здравоохранения, образования, науки и культуры — под занимаемыми ими зданиями, сооружениями и прилегающими территориями; для прочих организаций и объединений граждан — в преде-
лах норм, устанавливаемых законами субъектов Федерации?
Земельным кодексом отменено право граждан и негосударственных организаций на бесплатное бессрочное землепользование. Таким образом, государство вынуждает их приватизировать земельные участки, которые затем будут обложены налогом на имущество по их рыночной стоимости. Это повлечет за собой увеличение налогового бремени на население без увеличения его доходов.
Положительный ответ на данный вопрос позволит дать каждому человеку право выбора — приватизировать земельный участок и платить с него налог на имущество или владеть им на правах бесплатного бессрочного наследуемого владения. То же касается религиозных организаций и других указанных категорий землепользователей.
- С закреплением земель поселений в государственной муниципальной собственности?
Положительный ответ на данный вопрос позволит избежать земельных спекуляций в городах, позволит гражданам бесплатно пользоваться землей под жилыми домами, а городам — получать земельную ренту от передачи земель коммерческого назначения в долгосрочную аренду.
- С тем, что федеральные органы государственной власти обязаны в кратчайший срок восстановить дореформенные сбережения граждан в соответствии с ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации»?
Положительный ответ на данный вопрос заставит правительство и президента исполнить наконец нормы федерального закона «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», предусматривающего восстановление дореформенных сбережений граждан в соответствии с их реальной покупательной способностью на момент замораживания вкладов 20 июня 1991 г.
Положительный ответ на данный вопрос воспрепятствует попыткам отклонения данного закона, предпринимаемыми время от времени правительством и «Единой Россией».
- С запретом вывоза капитала из страны без разрешения Центрального Банка России, за исключением репатриации ранее осуществленных в России иностранных инвестиций?
Положительный ответ на данный вопрос позволит отменить новый ФЗ о валютном регулировании и контроле, легализовавший вывоз капитала из страны, ежегодный объем которого превышает 20 млрд. долларов. Вместе с вывозом капитала государство теряет доходную базу для налогообложения. Восстановление валютного контроля необходимо для прекращения вывоза капитала, что позволит увеличить доходы государственного бюджета на 200—300 млрд. рублей в год и даст возможность профинансировать предложенные правительством к отмене социальные обязательства и гарантии.
- С тем, что заработная плата чиновников и руководителей принадлежащих государству предприятий не должна превышать среднюю заработную плату по России более чем в 3 раза?
- С введением норм ответственности Правительства Российской Федерации за уровень и качество жизни населения России, предусматривающих отставку правительства в случаях их ухудшения?
Положительный ответ на данный вопрос позволит ввести нормы прямой политической ответственности правительства России за результаты проводимой им социально-экономиче-
ской политики, предусматривающие его периодическую отчетность о состоянии уровня и качества жизни населения в стране и процедуру отставки правительства в случае их снижения.
- С отменой ограничений на проведение референдумов, установленных федеральными законами «О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» (№5-ФКЗ, 2002 г.) и «О референдуме Российской Федерации (новая редакция, №5ФКЗ, 2004 г.)?
Введение искусственных ограничений на проведение референдумов данными законами серьезно затрудняет применение этого наиболее демократического и эффективного механизма прямого народного волеизъявления. Эти ограничения делают невозможным проведение референдумов в течение двух из четырех лет избирательного цикла, что неоправданно ограничивает права граждан на выражение и отстаивание своих интересов. Аналогичные последствия имеет увеличение количество подписей, необходимых для проведения референдума.
Положительный ответ на данный вопрос позволит устранить эти надуманные ограничения и защитить права граждан на отстаивание своих интересов путем прямого волеизъявления.
Мы призываем всех граждан страны к активной защите наших общих интересов. Нам не на кого больше надеяться — ни президент, ни правительство, ни парламент не только не представляют наши интересы, но действуют вопреки им. Референдум — единственно возможный в сложившихся условиях тотального игнорирования властью интересов народа законный способ отстоять наше право на достойную жизнь.
Председатель С.Ю. Глазьев
3 августа 2004 г., Москва[6]
ПРИЗНАТЬ ОШИБОЧНОСТЬ ПРОВОДИВШЕйСЯ ПОЛИТИКИ — ЗНАЧИТ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ВИНУ
ЗА УДРУЧАюЩУю БЕДНОСТЬ мИЛЛИОНОВ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОй СФЕРЫ
— Сергей Юрьевич, как вы оцениваете Послание президента Федеральному Собранию?
— Я очень рад, что наконец-то те цели и задачи в области социально-экономического развития страны, которые ставил блок «Родина», стали частью государственной стратегии развития страны, начиная от решения проблем модернизации жилищно-коммунального хозяйства и заканчивая задачами модернизации экономики и ее структурной перестройки на основе прорывных направлений научно-технического прогресса. Они сегодня восприняты властью в качестве целевых приоритетов экономической и социальной политики.
рендума в целом. На необоснованность позиции Центризбиркома, отказавшего гражданам России в их конституционном праве на проведение референдума, было указано в обращении представителей инициативной группы в Верховный суд. Но и Верховный суд занял по сути политическую позицию, отказав гражданам страны в их конституционном праве на проведение референдума.
Тем самым органы государственной власти, призванные защищать избирательные и гражданские права граждан, фактически мешают их реализации. Фундаментальное в демократическом обществе право граждан на референдум было ими попрано. Власти предержащие боятся прямого волеизъявления граждан по содержательным вопросам государственной политики — ведь тогда выяснится, что она проводится вопреки общенародным интересам и по воле большинства должна быть изменена. Хотя нынешний российский президент поначалу представлял себя обществу в качестве нанятого «по контракту» государственного менеджера, условия этого контракта с гражданами не обсуждаются — им даже запретили официально высказать свое мнение по существу проводимой властью политики.
После необоснованного отказа гражданам России в проведении референдума развеялись последние сомнения в отношении характера сложившегося в стране политического режима. По сути, это режим олигархо-бюрократической диктатуры, в котором волеизъявлению граждан места нет.
Правильно оценены масштабы ресурсов, которые нужны для их решения. Если еще год назад правительство соглашалось выделять на эти цели от силы несколько миллиардов рублей, то сегодня речь идет о сотнях миллиардов, которые необходимо вложить в модернизацию ЖКХ и жилищного строительства, в финансирование прорывных научно-исследовательских разработок, новейшего технологического уклада. Правильно оценены масштабы финансирования конституционной реформы. Все эти цели давно уже ждут своего решения. И я надеюсь, что после этого президентского Послания мы не будем бездарно отдавать деньги на кредитование чужих государств, а станем вкладывать сверхприбыли от экспорта нефти и газа в развитие собственной страны.
— Вы имеете в виду Стабфонд?
— Да. Никто из специалистов не может понять смысл замораживания триллионов рублей наших бюджетных доходов в Стабфонде и вывоза их за рубеж. Возможно, смысл этого ясен американцам или англичанам, которые выразили благодарность Кудрину за кредитование военных расходов этих государств в Ираке, объявив его лучшим министром финансов планеты. Ведь именно на эти цели фактически были использованы деньги наших налогоплательщиков — американцам есть за что благодарить российского министра финансов, сделавшего нашу стану крупнейшим донором Америки. 300 млрд. долларов резервов ЦБ и 3 трлн. рублей Стабфонда, вложенных в долговые обязательства стран НАТО, на дороге не валяются. Если бы эти деньги были вложены в развитие нашей экономики, то президент бы сейчас говорил о грандиозных успехах, а не о планах развития промышленности и социальной сферы. Жаль, что для того, чтобы сдвинуть нашу государственную власть в нужном направлении, потребовалось семь лет упорной борьбы, объяснений, инициатив, но лучше поздно, чем никогда. Я, правда, с трудом понимаю, как господа Греф, Кудрин, Зурабов и прочие члены кабинета министров будут эти цели реализовывать. Для них это означает разворот своей деятельности на 180 градусов, поскольку начинало нынешнее правительство как раз с прямо противоположного.
Я рад, что президент фактически согласился с нашей позицией о нецелесообразности вывоза бюджетных доходов за рубеж под видом Стабфонда, так что бюджет на ближайшие три года будет сбалансированным. Но Кудрин с Грефом протащили идею разделения бюджетных доходов на ненефтяные и нефтяные — с тем, чтобы ограничить использование последних. Они представили в проекте бюджета на следующие три года использование нефтяных доходов как трансферт, передаваемый для финансирования несуществующего дефицита мнимого ненефтяного бюджета. Таким образом, закрепляется идеология искусственного «отгораживания» нефтегазовых доходов от бюджетной системы страны, своего рода запрета расходовать их на социально-экономические нужды страны без особого решения главы государства.
Хорошо, что президент в своем Послании объявил о направлении этих денег в Фонд национального благосостояния. И все же Кудрину удалось «приземлить» президентские планы — вырезать из бюджета 10% ВВП (3,5 триллиона рублей), зарезервировав их для вложений в кредитование дорогих ему Англии и Америки. Так что за выполнение президентского Послания предстоит еще серьезная борьба с так называемым экономическим блоком правительства.
— Вы сомневаетесь в способности министров экономического блока правительства выполнить поставленные в Послании задачи?
— Я не сомневаюсь в том, что они будут его саботировать. Не только в силу своей некомпетентности. Для них признать ошибочность ранее проводившейся политики — значит, взять на себя вину за удручающую бедность миллионов работников социальной сферы, зарплата которых была бы сегодня вдвое выше, признать упущенные возможности развития передовых производств и модернизации того же ЖКХ, отапливающего воздух из-за полной изношенности инфраструктуры, а также согласиться с обвинениями ученых в том, что Россия потеряла половину научно-технического потенциала. Они на это не способны и, скорее всего, будут гнуть прежнюю линию и мешать реализации целей президентского послания. Тем более что далеко не все эти цели детально прописаны, их осуществление будет зависеть от интерпретации правительства.
— Как определить соответствие политики правительства президентскому Посланию?
— Для этого достаточно взглянуть на предложенный правительством проект федерального бюджета на будущий год. Несмотря на существенный рост социальных расходов федерального бюджета, уровень финансирования образования и здравоохранения в нашей стране вдвое отстает от среднемирового. И хотя есть возможности ликвидации такого отставания за счет профицита бюджета, этого не делается. Печально знаменитым 122-м законом о монетизации льгот основные обязательства в сфере народного образования и здравоохранения были сброшены в регионы, у большинства из которых нет средств на их финансирование. Нацпроекты, об успехах в реализации которых говорил президент, лишь частично закрыли эту дыру. Но вместо того чтобы наращивать ассигнования, выделяемые по национальным проектам в сфере образования и здравоохранения, правительство планирует их постепенное свертывание к 2010 г. Я думаю, что нацпроекты надо, наоборот, наращивать. Это правильное направление, соответствующее современному программно-целевому подходу к планированию бюджетной политики. Исходя из поставленных президентом целей, ассигнования на эти проекты должны быть увеличены в несколько раз — средства для этого в федеральном бюджете есть. Если же правительство их свернет, то это будет признаком подмены реальной политики обычным пиаром.
Многие из объявленных президентом задач не нашли отражения в проекте бюджета, внесенном на днях правительством в Государственную думу. В нем нет, в частности, «фонда модернизации ЖКХ», в который президент распорядился направить не менее 150 млрд. рублей, не запланировано 300 млрд. рублей на капитализацию Банка развития и других аналогичных институтов. Хотя правительство начинает, пусть медленно, поворачиваться в нужном направлении. Предусмотрены значительные ассигнования на инвестиции в объединенные авиационную и судостроительную корпорации, российскую венчурную компанию, существенно увеличены расходы на федеральные целевые программы, некоторые из которых сориентированы на реализацию прорывных направлений НТП. Существенно увеличены ассигнования на жилищное строительство и закупки современных вооружений. Надеюсь, нам удастся убедить правительство и думское большинство реализовать и другие задачи, поставленные пре-
зидентом: выделить 130 млрд. рублей на развитие нанотехнологий, 100 млрд. рублей на строительство автодорог, заняться, наконец, модернизацией транспортной инфраструктуры, строительством новых АЭС, увеличить ассигнования на научные исследования, модернизацию электроэнергетики. В отношении последней задачи, правда, возникает вопрос: будет ли отвечать Чубайс за развал единой энергетической системы страны и доведение электроэнергетики до аварийного состояния?
— Какие еще проблемы вы видите в реализации Послания?
— Я опасаюсь, что у нас вновь может выйти по Черномырдину: хотели как лучше, а получится как всегда.
— Что вы имеете в виду?
— Возьмем, к примеру, президентское предложение о выделении части средств Фонда национального благосостояния на софинансирование добровольных пенсионных накоплений. Даже если правительство создаст этот фонд и будет инвестировать его средства в пенсионные накопления, остается опасность, что деньги вновь окажутся за рубежом. Правительственным финансистам уже удалось пролоббировать разрешение размещать пенсионные накопления за рубежом. В этом случае пенсионные сбережения будут работать не на нашу экономику, а на конкурентов.
— И все же вы надеетесь на лучшее?
— Да. Я уверен, что нашу идеологию опережающего развития страны на передовой технологической основе и построения современного социального государства удастся отстоять. Она отвечает чаяниям всего нашего народа, соответствует общенациональным интересам, имеет строгое научное обоснование. Конечно, ее реализацию будут тормозить, будут мешать и извращать. Но последние два президентских послания Путина свидетельствуют о том, что глава государства взял правильный курс. Беда в том, что его проведению мешают не те, кто, по словам президента, хотел бы вернуть недавнее прошлое, а лично преданные его назначенцы. Как известно из теории и практики управления, лично преданные, в отличие от компетентных и ответственных, в лучшем случае могут завалить порученное им дело. Надеюсь, что кадровая политика будет изменена в соответствии с изменением задач государственной политики, решение которых требует куда большей квалификации руководящих кадров, чем раньше.
В целом я могу констатировать, что мы боролись не зря. Программа «Социальная справедливость и экономический рост», которая была выдвинута Народно-патриотическим союзом «Родина» на прошлых выборах, сегодня почти целиком стала государственной стратегией. Конечно, далеко не всего нам удалось пока добиться от нынешней власти. В Послании не признается необходимости решения проблемы восстановления дореформенных сбережений граждан. А ее необходимо решать сейчас, пока есть ресурсы и вкладчики Сбербанка еще живы. Нам не удается убедить нынешнюю власть в необходимости кардинального повышения оплаты труда. Шаги в этом направлении делаются, но очень медленно. До сих пор минимальная оплата труда в нашей стране существенно ниже прожиточного минимума, при том что можно было бы ее уже в этом году вывести на общепринятые в мире стандарты.
В то же время озвученные президентом цифры бюджетных ассигнований в основные отрасли развития страны позволяют мне говорить, что масштаб задач оценен правильно. Цифры, которые назвал президент, совпадают с цифрами нашей альтернативной концепции бюджетной политики, с которой мы выступали в течение последних четырех лет. Это вселяет надежду на то, что политика в этих направлениях станет реальной.
— Из ваших слов следует, что вы разделяете тезисы, озвученные президентом в социально-экономической сфере. Но что вы скажете о политической части Послания?
— Действительно, в социально-экономической сфере очень много из того, что мы потребовали от власти, отражено. Даже такие детали, как повышение экспортной пошлины на экспорт круглого леса или программа развития нанотехнологий, заявлены в качестве задач, которые нужно решать сейчас. И я мог бы только дополнить круг этих задач. Но думаю, что нам удастся это сделать в дальнейшем диалоге с правительством по поводу бюджетной политики.
Но что касается политической части Послания, должен констатировать: власть все-таки очень далека от народа и смотрит на свое отражение в зеркале ангажированных ею СМИ, вместо того чтобы смотреть на общество. Властям предержащим всерьез кажется, что они создают гражданское общество, что они поддерживают общественные организации, но мы хорошо видим, что нынешняя практика построения гражданского общества очень мало отличается от той, которая была еще в старом, так называемом тоталитарном режиме. Поддерживаются и развиваются только те общественные организации и те общественные инициативы, которые инициирует сама же власть. Говорить о том, что у нас какие-то серьезные продвижения в сфере построения гражданского общества и народовластия я бы не стал. Для меня очевидно, что власть все дальше и дальше отдаляется от народа. И это одна из проблем, которая затрудняет выполнение президентского Послания. Коррумпированность власти, недееспособность и невежество многих руководителей — главный барьер на пути реализации президентского курса, возникший вследствие проведенной президентом политической реформы, фактически снявшей ответственность власти перед избирателями. Бюрократизация и формализация всей системы госуправления лишает последнюю смысла — вместо ответственного исполнения возложенных на нее обязанностей мы наблюдаем очковтирательство.
— То, что вопреки обыкновению многие положения президентского Послания не только не вызвали на себя критику, но и оказались близки народно-патриотическим силам — это результат многолетней критики конструктивной оппозиции или результат течений внутри власти?
— Думаю, что это результат постепенного обучения власти. Жалко, что на это обучение ушло целых семь лет. То есть мы пришли сегодня к той политике, которую начинало правительство Примакова, но уже спустя восемь лет, в течение которых можно было бы сделать очень многое. Очень жаль, что обучение наших министров обходится стране столь дорого. Я с тревогой думаю, что станет делать следующий президент. А если он опять начнет с того, что отменит то, что было сделано до него, то нам придется опять обучать новую власть, и так бродить по одному и тому же кругу, наблюдая деградацию научно-производственного и человеческого потенциала.
— Если следующий преемник пойдет с этой программой на выборы, вы поддержите ее или будете оппонировать? Насколько политическая часть вас устраивает?
— Я всегда исхожу из смысла проводимой политики. Если декларации президентского Послания правительство действи тельно будет реализовывать, то такую политику надо поддерживать вне зависимости от субъективных предпочтений — мы ее долго предлагали и бились за нее много лет. Если же правительство не будет этого делать и мы столкнемся с расхождением, как обычно, между словами и делами власти, тогда наша задача не будет выполненной. При этом реализовать политику общенародных интересов тем легче, чем больше в стране обратных связей между властью и обществом, иными словами, чем больше демократии, тем больше механизмов гражданского общества действует. Нынешняя власть обрубила практически все мосты, связывающие ее с обществом. Даже выборы превратились в имитацию. И надеяться на то, что можно нынешнюю коррумпированную и неповоротливую государственную машину развернуть только одними уговорами в нужную сторону, к сожалению, не приходится. Мы уже много раз сталкивались с тем, что назначенные по принципу личной преданности министры гробят дело, которое им доверяют. И если глава государства не станет опираться на общенародную поддержку в осуществлении поставленных целей и задач, вряд ли нынешняя коррумпированная и невежественная бюрократия будет их реализовывать.
Необходим постоянный народный контроль, контроль общества, общественных представителей за исполнительной властью. И я не вижу причин, почему при такой политике не восстановить демократический институт. Диктатура обычно применяется для того, чтобы проводить политику, враждебную интересам народа. Пиночетовская диктатура — ярчайший пример, которому нас призывали следовать еще несколько лет назад. А если политика реализуется в общенародных интересах, в интересах развития страны, то не надо бояться собственного народа, нужно давать больше возможностей людям напрямую влиять на политику, избирать своих представителей лично и демократизировать нашу политическую систему. Но свое отношение к власти я в любом случае буду определять исходя из реальных дел. Они станут видны через месяц после того, как бюджет пройдет первое чтение. Через месяц мы будем знать, какая именно политика будет проводиться в стране в ближайшие три года.
— Что же вы планируете делать сейчас, когда свершилось то, чего вы добивались долгие годы, — президент не толь-
ко услышал, но и фактически озвучил то, что вы хотели услышать?
— Я вижу важнейшую задачу нашей фракции в том, чтобы правильно оценить предлагаемый правительством трехлетний бюджет с точки зрения стоящих перед страной целей и задач, включая те, которые поставлены в Послании президента. Мы возьмем на себя труд провести экспертизу проекта бюджета с точки зрения его соответствия президентскому Посланию. Я думаю, что это очень важно, поскольку до сих пор ни одно из президентских Посланий не было полностью реализовано. Предыдущее Послание было реализовано лишь частично, а более ранние вообще не реализовывались. Так что очень важно не упустить момент и заставить государственную машину все-таки реально повернуться в правильном направлении, а не только подать сигнал.
Опубликовано в «Ежедневном журнале» 14 мая 2007 г.
Воспроизводится с сокращениями
ПО ПРЕЖНЕй КОЛЕЕ
Новый экономический курс президента
тонет в трехлетнем бюджете правительства
В своем недавнем Послании Федеральному Собранию президент поставил вполне конкретные задачи по активизации государственной политики развития экономики, указав также на объемы выделяемых на эти цели средств. После внесения правительством проекта федерального бюджета на три года можно оценить, насколько реально изменится курс государственной политики.
Расходы — больше, темпы — ниже
Поставленные в президентском Послании ориентиры бюджетных ассигнований на решение ключевых проблем эко номического развития страны во многом совпадают с пред лагавшимися нами в концепциях альтернативной бюджетной политики в прошлые годы. Реализован наконец принцип сбалансированности расходов и доходов бюджета, на котором мы настаивали все последние годы. Вывоз нефтегазовых доходов за рубеж фактически прекращается — с 8% ВВП в прошлом году до 0,6—0,7% ВВП в предстоящую трехлетку. В ближайшие три года 90% нефтегазовых доходов бюджета — более чем по 2 трлн. рублей — пойдут в дело.
В результате расходы федерального бюджета вырастут более чем на триллион (в реальном выражении на 9,3%) и достигнут 18,8% ВВП. Однако, согласно представленному правительством прогнозу, это не переломит тенденцию снижения темпов экономического роста. Прогнозируемый в будущем году темп прироста ВВП опустится с 6,7% в прошлом году и 6,5%, ожидаемых в текущем году, до 6,1%. Снижаются и темпы прироста инвестиций в основной капитал — с 13,7% до соответственно 12,8% и 11,9%. Несмотря на впервые предпринимаемые меры промышленной политики, прогнозируемый прирост промышленного производства остается невысоким, достигая 5,2% в текущем году и снижаясь до 4,8% к 2009 г.
Под декларации о «переходе от энергосырьевой модели экономического роста на инновационный тип развития» правительство планирует замедление экономического роста. При этом предусматриваемые меры по повышению эффективности, диверсификации и конкурентоспособности экономики (расходы на развитие экономики превысят в будущем году 718 млрд. рублей) дадут лишь 1% прироста ВВП, а государственные инвестиции в институты развития и промышленные объединения в размере 392 млрд. рублей, целевые программы в объеме 671 млрд. рублей обеспечат от 0,16 до 0,53 процентных пункта дополнительного прироста ВВП в год.
Замечу, что реализация предлагавшейся альтернативной концепции бюджетной политики с аналогичными ориентирами по увеличению бюджетных ассигнований на стимулирование инвестиционной и инновационной активности должна была обеспечить выход на траекторию устойчивого экономического роста с темпом не менее 10% прироста ВВП в год. Из этого следует, что либо прогноз прироста ВВП занижен, либо правительство заранее считает свою политику ма лоэффективной.
В целом представленный правительством проект трехлетнего бюджета носит инерционный характер. Это видно по структуре его расходов, которая фиксирует сложившиеся к настоящему времени приоритеты бюджетной политики. В отличие от стран с развитой экономикой и социально ориентированных государств, направляющих основную часть расходов на цели социально-экономического развития, у нас закрепляется доминирующее значение бюрократического аппарата и силовых структур, доля которых в расходах федерального бюджета ближайшие три года будет поддерживаться на уровне 37%. Доля расходов на культуру, образование и здравоохранение немного снижается — с 10% в текущем году до 8,8% в 2010-м. Несколько увеличивается (с 24% до 28%) доля расходов на социальную политику и трансферты внебюджетным фондам при снижении доли трансфертов регионам (с 14,6% до 11%). На фоне несущественных изменений в распределении средств между полицейско-бюрократическими и социальными функциями довольно резко после увеличения в будущем году до 11% снижается до 6,6% к 2010 г. доля расходов на развитие экономики. Судя по структуре бюджетных расходов, импульс, данный президентом в направлении активизации государственного воздействия на социально-экономическое развитие страны, гасится его правительством и затухает к 2010 г.
Может быть, поэтому замедляется экономическое развитие, и большинство граждан не ощущает улучшения жизненного уровня. Согласно данным социологического исследования, проведенного Горбачев-фондом, подавляющее большинство населения (88%) не видит улучшения в реализации принципа социальной справедливости. Причем большинство граждан не видит в течение последних семи лет улучшений ни в борьбе с бедностью (84%), ни в повышении уровня жизни населения (80%).
«Проклятые» вопросы
Пожалуй, самой масштабной с точки зрения воздействия на прирост ВВП из поставленных социальных задач является решение «проклятого» жилищного вопроса. В послании пре зидент потребовал довести объемы жилищного строительст
ва до 100—130 млн. кв. метров в год. Как ни странно, в до вольно подробном прогнозе социально-экономического развития России на предстоящую трехлетку нет ни одной цифры по объемам жилищного строительства. Есть, правда, данные о планируемых бюджетных ассигнованиях на эти цели: всего на них предполагается мобилизовать 122 млрд. рублей. Это эквивалентно не более чем 10 млн. кв. метров. Таким образом, на 1 рубль, выделяемый государством на поддержку жилищного строительства, необходимо привлечь 10 рублей населения. С учетом того, что процентная ставка по ипотечным кредитам составляет не менее 10%, это означает, что гражданам фактически предлагается самостоятельно оплачивать решение своих жилищных вопросов. Исключение составят военнослужащие, ликвидаторы радиационных аварий и вынужденные переселенцы — 100 тысяч семей. Еще 22 тысячи семей, проживающих в районах Крайнего Севера, получат субсидии на переселение (около миллиона рублей на семью). Кроме этого, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» будут предоставлены квартиры более 110 тысячам семей, а также планируется предоставить жилье 45 тысячам ветеранов и инвалидов. Таким образом, всего государство берет на себя решение жилищного вопроса для миллиона человек. В том числе планируется полностью обеспечить постоянным жильем военнослужащих Вооруженных сил.
Хотя правительством действительно запланированы немалые ресурсы для поддержки жилищного строительства, их недостаточно для решения поставленных задач. Не предусмотрено пока выделение 100 млрд. рублей для переселения граждан из аварийного жилья, так же, как и 150 млрд. рублей на ремонт жилого фонда. Следует заметить, что именно эти цифры предлагались в альтернативной концепции бюджетной политики, отвергнутой партией власти в прошлом году. Если они действительно будут запланированы в проекте бюджета на следующий год, задача модернизации ЖКХ может быть решена к 2010 г. Но для создания предложенного президентом специального фонда для финансирования этих программ придется соответственно уменьшить объем Резервного фонда, что потребует корректировки основных характе ристик проекта бюджета.
Не менее важным для поддержания высоких темпов роста экономической активности является устранение инфраструктурных ограничений — прежде всего в электроэнергетике и транспортной системе. Поставлена задача увеличить производство электроэнергии на две трети к 2020 г., оценив необходимые для этого инвестиции в 12 трлн. рублей. В том числе президент поставил задачу строительства 26 атомных энергоблоков за ближайшие 12 лет, а также крупных ГЭС в Сибири и на Дальнем Востоке. Согласно правительственному прогнозу, рост производства электроэнергии к 2010 г. составит 115% к уровню 2006 г. При этом за счет бюджетных ассигнований планируется реализация ФЦП «Развитие атомного машиностроительного комплекса» с объемом финансирования 235,4 млрд. рублей до 2010 г. Еще 90 млрд. рублей планируется выделить на повышение надежности Единой национальной электрической сети.
Остальные 2,7 трлн. рублей должны будут, по всей видимости, оплатить потребители электроэнергии. Индексы цен на электроэнергию для конечных потребителей, по оценке Минэкономразвития России, составят в 2007 г. 12—13%, в 2008 г. — 16—17%, в 2009 г. — 15—16%, в 2010 г. — 13—15%. Едва ли этого будет достаточно для обеспечения потребностей электроэнергетики в инвестиционных ресурсах. По-видимому, темп роста тарифов будет выше, чем заявленный в прогнозе. И правительство не будет нести за это ответственность, так как к 1 июля 2010 г. планирует довести долю электроэнергии, продаваемой по нерегулируемым ценам, до 80%. Остается открытым вопрос: выдержат ли потребители столь стремительный рост тарифов на электроэнергию? Или вместо объявленной президентом «второй электрификации страны» Чубайс устроит нам новый этап ее ограбления? Ведь предупреждали специалисты, что навязанная им руководству страны реформа (а по сути — приватизация) электроэнергетики приведет к резкому росту тарифа. Если сейчас экономический рост задыхается от нехватки электроэнергии, то через несколько лет он захлебнется из-за ее чрезмерной дороговизны.
Как видим, эти и другие масштабные и адекватные вызовам времени задачи реализуются в проектировках правительства лишь частично. При этом самые затратные меры по устранению узких мест в энергетической и транспортной ин фраструктуре в основном придется финансировать потреби телям. Планируемое правительством повышение тарифов на газ и электроэнергию, несомненно, будет тормозить экономический рост, снижая конкурентные преимущества нашей экономики.
Чтобы этого не случилось, необходимо увеличить планируемые на будущий год бюджетные расходы на полтриллиона рублей. Сделать это можно за счет соответствующего снижения величины Резервного фонда.
Ущербная политика
Резервный фонд создается вместо Стабилизационного фонда для компенсации «выпадающих доходов федерального бюджета в течение 3 лет при снижении мировых цен на энергоресурсы». При этом правительством приводится весьма надуманная методика расчета нормативной величины Резервного фонда в 10% ВВП, исходя из ничем не обоснованной гипотезы о снижении цены нефти до средней за последнее десятилетие. Накапливаемые в этом фонде средства российских налогоплательщиков правительство планирует размещать за рубежом якобы для обеспечения стабильности бюджетной политики. На самом деле последняя обеспечивается золотовалютными резервами страны, величина которых к концу текущего года достигнет 400 млрд. долларов и вчетверо превысит целесообразный максимум, традиционно измеряемый полугодовым объемом импорта. В этих условиях инфляционные последствия расходования средств Резервного фонда идентичны эквивалентному заимствованию правительством необходимых для балансирования бюджета средств у Центрального банка. И в том, и в другом случае в экономику впрыскивается одинаковое количество денег при эквивалентном сокращении валютных резервов. Если их величина остается при этом больше целесообразного минимума, то не подвергается риску и устойчивость валютного курса.
Единственным реальным смыслом политики резервирования бюджетных средств в иностранных долговых обязательствах остается поддержание курса доллара за счет российских налогоплательщиков. Но эта политика будет продолжаться — правительство предлагает заморозить в Резервном фонде от
3,07 трлн руб. в начале 2008 г. до 4,1 трлн. руб. в 2010 г. До ходность от размещения этих средств за рубежом составляет менее 2% годовых. При этом, согласно правительственному прогнозу, наши предприятия вынуждены будут компенсировать изъятие этих денег из экономики привлечением займов из-за границы в размере до 50 млрд. долларов в год под 8— 15%. Чистый ущерб от такой политики составит за ближайшие три года около 3,5 трлн. рублей.
Если бы вместо политики замораживания нефтедолларов было реализовано наше предложение по конвертации Стабфонда в Бюджет развития, то отечественным предприятиям не пришлось бы прибегать к дорогостоящим займам за рубежом, а объявленный президентом поворот к политике развития произошел бы наверняка. Вместо этого основная часть Стабфонда замораживается в Резервном фонде, а остаток передается в Фонд будущих поколений, переименованный в Фонд общественного благосостояния. Его планируется расходовать на покрытие дефицита пенсионной системы и софинансирование добровольных пенсионных накоплений, а также (в объеме 300 млрд. рублей) на капитализацию институтов развития, прежде всего Банка развития, Инвестиционного фонда, Российской венчурной компании и других. При этом сами финансовые ресурсы фонда, по словам президента, должны быть увеличены до таких объемов, чтобы поставленные задачи можно было решать за счет доходов от их эффективного размещения.
Только для решения поставленных задач поддержки пенсионной системы в будущем году расходы этого фонда должны составить более 500 млрд. рублей. Даже если финансовые ресурсы данного фонда будут размещаться на порядок эффективнее, чем размещаются сегодня средства Стабилизационного фонда (для финансирования этих расходов за счет собственных средств), Фонд общественного благосостояния должен составить не менее 2,5 трлн. рублей. Правительством величина Фонда будущих поколений запланирована в размере 771 млрд. рублей на 1 февраля 2008 г. Чтобы выйти на решение поставленных президентом задач, объем Фонда национального благосостояния должен быть увеличен на 2 трлн. рублей за счет соответствующего сокращения Резервного фонда.
Замораживание более 3% ВВП в низкодоходных зарубеж ных обязательствах не позволяет произвести необходимый сдвиг в структуре бюджетных расходов. Она по-прежнему больше напоминает бюджет полицейско-бюрократического государства образца позапрошлого века, чем бюджет современного государства развития. Уровень финансирования социальных расходов у нас вдвое ниже среднемирового, втрое ниже уровня развитых стран и один из самых низких среди стран с переходной экономикой. Для выхода на среднемировой уровень финансирования социальной сферы нам как раз не хватает тех самых 3,5% ВВП, которые теряются из-за замораживания в Резервном фонде.
Ниже минимума
Бюджетная политика правительства не приближает нас к стандартам социального государства. Россия остается чуть ли не единственной страной в Европе, где систематически и многократно занижается оплата труда. В отличие от наших бывших союзных республик (которые не располагают месторождениями нефти и газа), мы до сих пор не привели минимальную оплату труда в соответствие с прожиточным минимумом. С сентября текущего года она увеличится до 2300 рублей в месяц и достигнет 56,6% от прожиточного минимума, который, по оценкам экспертов, занижен по меньшей мере вдвое. Но даже на этот заниженный уровень минимальная зарплата по планам партии власти выйдет за пределами планового периода — к началу 2011 г.
Хотя, по оценкам правительственных чиновников, к 2010 г. доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится до 10,7% против 16% в прошлом году, в действительности доля бедных, по оценкам социологов, колеблется от трети до половины семей (если, конечно, правильно считать прожиточный минимум — в соответствии с научно обоснованными минимальными нормами потребления). Правительство стыдливо умалчивает о собственном вкладе в борьбу с бедностью — ведь основным контингентом бедного населения являются семьи работников бюджетной сферы, нанимаемые государством для выполнения важнейших задач социально-экономического развития страны. В материалах к проекту бюджета вообще нет данных о планируемой величине зарплаты работников бюджетной сферы. Есть лишь фиксация ее нынешней средней величины в 6242 рубля в месяц с указанием на планируемую индексацию зарплаты работникам федеральных бюджетных учреждений по мере роста инфляции: в 2008 г. — на 7% с 1 сентября, в 2009 г. — на 6,8% с 1 августа и в 2010 г. — на 6,5% с 1 января. С учетом опережающего роста цен на товары первой необходимости это означает, что уровень доходов федеральных бюджетников даже снизится. А чего ждать учителям, врачам, работникам культуры, получающим зарплату из региональных и местных бюджетов? Об этом в материалах к проекту федерального бюджета ничего не говорится. Даже обещания правительственных чиновников повысить зарплату врачам-специалистам вслед за повышением зарплаты врачам первичного звена медицинской помощи в рамках национального проекта «Здоровье», по всей видимости, забыты.
Между тем объективные возможности покончить с позорной нищетой учителей, врачей и ученых, от работы которых полностью зависит будущее нашей страны, существуют уже несколько лет. Удвоение зарплаты работникам бюджетной сферы потребовало бы трети средств, замороженных сегодня в Стабилизационном фонде. Этот шаг не является чрезмерным — мы бы довели тем самым финансирование социальной сферы лишь до среднемирового. Но партия власти предпочла переложить ответственность за финансирование социальной сферы на субъекты Федерации, у большинства из которых нет и не будет в обозримой перспективе источников даже для своевременной индексации нищенской зарплаты учителей и врачей.
Необоснованное замораживание десятой части ВВП в Резервном фонде — не единственный рудимент политики торможения экономического роста. В этом же направлении действует продолжение безумного процесса наращивания госдолга в условиях профицитного бюджета, лоббируемого финансовыми спекулянтами. Без какой-либо необходимости правительство планирует занять на финансовом рынке в 2008 г. 463 млрд. рублей, в 2009-м — 497 млрд. рублей, в 2010-м — 671 млрд. рублей. Это означает, что на такую же сумму уменьшатся ре сурсы финансирования частных инвестиций. От этих займов можно было бы отказаться за счет профицита федерального бюджета, который искусственно скрывается путем разделения доходов на нефтяные и не нефтяные. В том же направлении действует политика стерилизации денежной массы, продолжаемая Центробанком путем размещения собственных облигаций и привлечения на депозиты средств коммерческих банков. В условиях сохраняющейся недомонетизации российской экономики эта политика ведет к искусственному ограничению кредитных ресурсов, провоцируя их удорожание и выталкивая российских заемщиков за рубеж.
Продолжение сложившейся политики денежной эмиссии, жестко привязанной к приросту валютных резервов, создает угрозу резкого торможения экономического роста при прогнозируемом правительством снижении сальдо платежного баланса вплоть до дефицита по счету текущих операций. В этом случае денежная эмиссия будет вестись только для обслуживания иностранных инвесторов, по-видимому, именно этим объясняется прогнозируемое замедление прироста денежной массы до 17—19% к 2010 г.
Согласно теории игр
Очевидно, что без кардинального изменения денежной политики положительное влияние роста бюджетных расходов будет нивелироваться искусственным ограничением денежного предложения. Таким образом, главным фактором торможения экономического роста остается ограничительная денежная политика. При этом в условиях привязки эмиссии рублей к приросту валютных резервов чем меньше сальдо платежного баланса, тем меньше становится денежная эмиссия и тем меньше возможностей кредитования роста производства. Собственно, это мы и наблюдаем в прогнозе правительства. Рост производства замедляется, несмотря на опережающий рост бюджетных расходов, денежных доходов и расходов населения, инвестиций и розничной торговли. Единственным снижающимся макроэкономическим показателем является прирост денежной массы, который падает с 49% в прошлом
году до 17—19% в 2010 г. Сдерживание денежного предложе ния ухудшает условия кредитования и затрудняет расшире ние производства, являясь главной причиной прогнозируе мого замедления экономического роста.
Пользуясь терминологией теории игр, можно сказать, что правительство реализует смешанную стратегию бюджетной и экономической политики, в которой есть две составляющие. Первая из них — продолжение прежней монетаристской политики количественного ограничения денежной массы и привязки денежной эмиссии к приросту валютных резервов, либерализации валютного регулирования и самоустранения государства от ответственности за социально-экономическое развитие страны. Вторая — переход на инновационный путь развития на основе научно-технического прогресса при сбалансированной бюджетной и гибкой денежно-кредитной политике. Без последней возможности второй составляющей ограничены весьма жесткими пределами перераспределения текущих бюджетных доходов. В представленном правительством проекте бюджета они не превышают 1% ВВП. В то же время величина изымаемых из экономики денег в Резервный фонд и государственные долговые обязательства стабилизируются на уровне около 10% ВВП. Соотношение этих величин и определяет десятикратное превышение веса первой составляющей смешанной стратегии над второй.
Иными словами, несмотря на громкие декларации о необходимости перехода на инновационный путь развития и существенное увеличение бюджетных ассигнований на развитие и модернизацию экономики, планируемая на ближайшие три года политика продолжает оставаться на 90% прежней. Все потуги правительства выполнить указания президента о повышении конкурентоспособности экономики, инвестиционной и инновационной активности тянут не более чем на 1% ВВП. Ожидать серьезных изменений в динамике социально-экономического развития при такой политике не приходится — поданный президентом сигнал о переходе на новый курс сконструированная им государственная машина не услышала, продолжая движение по прежней колее.
Опубликовано в газете «Московские новости» 25 мая 2007 г.
ВЫСЛУШАТЬ УЧЕНЫХ
Смогут ли чиновники эффективно заниматься
внедрением новых разработок?
Академическое сообщество России замерло в напряженном ожидании: проект Устава Российской академии наук сейчас находится на согласовании в Правительстве РФ. Какие перспективы у Академии наук, если будет принят правительственный вариант реформы РАН? Свой взгляд на эту проблему предлагает Сергей Глазьев, руководитель Национального института развития, членкорреспондент РАН, депутат Госдумы РФ.
— Сергей Юрьевич, вы публично поддержали принятый в конце марта на общем собрании РАН Устав Академии, одновременно с этим присоединившись к критике правительственного варианта Устава (так называемый Модельный устав). Однако, по мнению некоторых наблюдателей, коренное отличие альтернативного варианта Устава в том, что он вводит в систему РАН механизмы менеджмента (наблюдательный совет, в частности), повышающие эффективность научных разработок. Ведь трудно поспорить с тем, что сами ученые вряд ли смогут одновременно заниматься фундаментальными исследованиями и вопросами их коммерциализации и внедрения.
— А вы полагаете, что назначаемые правительством чиновники лучше ученых смогут заниматься внедрением их разработок? До сих пор правительственные бюрократы управляли государственным имуществом исключительно путем его приватизации. Ни одна из корпораций, руководимых правительственными назначенцами, не продемонстрировала эффективного менеджмента. Даже витрина российского госкапитализма — «Газпром» — характеризуется на порядок более низкой эффективностью, чем была достигнута в советское время, когда центральный офис этого гиганта размещался в обычном здании средней школы. В среднем производительность труда в нефтегазовом секторе упала втрое к дореформенному уровню.
Да что говорить, если большинство нынешних минист ров не имеют профильного образования в предметной облас ти своей деятельности? Кого они могут назначить в наблю дательный совет? Тезис о помощи ученым во внедрении их разработок не выдерживает критики. Что сейчас мешает правительственным ведомствам этим заниматься? Деньги ведь у них. Но вместо того чтобы вкладывать свободные средства в освоение новых технологий и поднимать конкурентоспособность российской экономики, правительство деньги налогоплательщиков вывозит за рубеж.
— Чем обусловлено единодушное отторжение учеными Устава, предложенного правительством?
— Стремлением спасти российскую науку от окончательного уничтожения. Только в нашей стране происходит сокращение численности ученых и снижение доли расходов на НИОКР в ВВП. Причем невежество власти непробиваемо — ученые РАН ежегодно вносят в правительство сотни предложений по освоению самых современных технологий и активизации имеющегося еще научно-технического потенциала. Но для министров-экономистов задачи поддержки доллара и кредитования военных расходов НАТО намного важнее освоения новых технологий. Во всяком случае, объемы ежегодно предоставляемых им Россией кредитов в форме размещения средств Стабфонда на порядок превышают бюджетные ассигнования на науку и в 70 раз — государственные инвестиции в наукоемкое машиностроение. Неудивительно, что исход из России ученых и специалистов принял массовый характер. За годы реформ страну покинуло около 5 млн. специалистов, в том числе 800 тыс. ученых и инженеров высшей квалификации.
— Допустим, все-таки правительственный вариант реформы РАН пройдет…
— Если вы хотите узнать, что будет с РАН после ее административного подчинения правительственной бюрократии, посмотрите на судьбу отраслевой науки. Большинство всемирно известных НИИ и КБ, которые разрабатывали передовую технику, фактически уничтожены, а занимавшиеся ими здания сданы в аренду под казино, офисные, складские и торговые помещения. А ведь все это богатство, непосредственно ориентированное на внедрение новых технологий, было в полном подчинении правительства. Почему оно вместо стимулирования НТП уничтожило научно-технический и промышленный потенциал?
— Если идея придания РАН формы корпорации настолько неадекватна, какие, на ваш взгляд, нужно предпринять меры для повышения коммерческой привлекательности и эффективности разработок российских ученых?
— Нужна система мер по формированию российской инновационной системы. Для этого необходимо обеспечить, вопервых, приоритетность государственной поддержки НИОКР, конверсию наукоемкой промышленности и стимулирование НТП, утроив государственные расходы на эти цели. Во-вторых, стимулировать передачу технологий из военного в гражданское производство. В-третьих, выявлять и поддерживать развитие технологий, освоение которых обеспечит российским предприятиям конкурентные преимущества на мировом рынке. В-четвертых, необходимо начать разработку и реализацию программ развития территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала (технополисов и наукоградов), а также развернуть субсидирование импорта перспективных современных технологий и научно-технической информации. В-пятых, следует создать с государственной помощью инфраструктуру, обеспечивающую коммерциализацию результатов НИОКР, включая венчурные фонды, коллективные научные и информационные центры, инженерные парки и пр.
Только немедленная реализация всех этих мер позволит сохранить и активизировать научно-промышленный потенциал России в нынешних условиях его глубокого разрушения.
— Какие механизмы, по-вашему, нужны для придания РАН «современного» облика? Что необходимо предпринять для безболезненного реформирования академии?
— Выслушать ученых. Специально созданная ими комиссия подготовила свой проект Устава, который сохраняет автономию и самоуправление РАН, приводя ее управление в соответствие с недавно принятыми поправками в закон о науке. Его и надо принять в интересах сохранения и развития отечественной науки.
А что касается модернизации, то нужно сделать очевидные вещи. Во-первых, утроить государственные ассигнования на науку, направив их прежде всего на модернизацию ее оборудования, приборов, оснащение современными информаци онными технологиями. Во-вторых, создать полноценные ин ституты развития, предусмотрев возможности их рефинанси рования. В-третьих, освободить от налогообложения расходы предприятий на внедрение новой техники и проведение НИОКР, в том числе заказываемых в РАН. В-четвертых, стимулировать интеграцию науки и образования.
Опубликовано в «Независимой газете» 26 апреля 2007 г.
НДС РАСКРУЧИВАЕТ мАХОВИК ИНФЛЯЦИИ И ТОРмОЗИТ ЭКОНОмИЧЕСКИй РОСТ
Сергей Глазьев — известный экономист, придерживающийся левых политических взглядов. Он сторонник активного участия государства в экономике, когда-то лоббист Бюджета развития, а теперь — вложения средств Стабфонда в российскую экономику. По сути, ту же экономическую политику в своем последнем Послании провозгласил президент Владимир Путин. О том, что президент уже позаимствовал у левых и что еще предстоит сделать правительству в этом направлении, руководитель Национального института развития рассказал в интервью корреспонденту «Газеты» Андрею Лаврову.
— Сейчас Минфин сделал трехлетний бюджет с огромными инвестиционными расходами, тратит часть Стабфонда, а в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин пообещал инвестировать еще триллион рублей. Вы довольны?
— Действительно, многие наши предложения сегодня начали реализовываться. Многие положения нашей программы «Социальная справедливость и экономический рост» легли в основу заявленной президентом новой стратегии развития страны. Жаль только упущенного времени: мы начинали реализовывать эту стратегию еще с правительством Примакова. Если бы правительство Путина ее продолжило, у нас была бы сейчас другая страна с вдвое более высоким уровнем жизни и конкурентоспособной, диверсифицированной экономикой. Она бы шла по инновационному пути развития.
Потребовалось семь лет, чтобы научить Грефа понятиям инновационной и инвестиционной политики. С восьмилетним опозданием создается Банк развития. Спустя шесть лет после того, как Греф и Кудрин ликвидировали Бюджет развития, мы возвращаемся к этой идее через Фонд национального благосостояния и федеральные целевые программы.
Еще полгода назад Кудрин рассуждал о том, что наша экономика не может переварить сверхприбыль от экспорта нефти, убеждая президента в необходимости замораживания многих триллионов рублей налоговых поступлений в Стабфонде и в вывозе этих денег за рубеж. Нам удалось убедить главу государства отказаться от этой безумной политики превращения России в «дойную корову» для стран НАТО и не бояться потратить сверхприбыль от экспорта нефти на нужды нашего собственного социально-экономического развития. В ближайшие три года 90% нефтегазовых доходов бюджета — более чем по 2 трлн. рублей в год — пойдут в дело. Теперь возникает вопрос: насколько эффективно государство распорядится этими деньгами?
Созданный в позапрошлом году Инвестиционный фонд целый год раскачивался, Греф не знал, куда направить 70 млрд. рублей выделенных ему бюджетных ассигнований. В конце концов он не нашел ничего лучшего, как пойти в кильватере олигархов, софинансируя их инвестиции в капиталоемкие объекты инфраструктуры. Под вывеской государственночастного партнерства правительство идет в колее крупного бизнеса, помогая ему эксплуатировать наши природные богатства. А ведь роль государства — не помогать крупному бизнесу, а направлять развитие экономики по инновационному пути, стимулируя освоение перспективных, прорывных направлений НТП. Пока об этом лишь говорят — в частности, об освоении нанотехнологий. В трехлетнем проекте бюджета указанных президентом 130 млрд. рублей нет.
— Значит, деньги есть, а программы нет?
— Правительство демонстрирует беспомощность в переводе экономики на инновационный путь. Несмотря на увеличение в будущем году ассигнований на развитие экономики на 221 млрд. рублей, а всех бюджетных расходов — более
чем на триллион рублей, прогнозируемые темпы экономиче ского роста снижаются с 6,7% прироста ВВП в прошлом году до 6,1% в будущем. Правительство начинает наконец вкладывать немалые деньги в развитие (в будущем году планируется выделение 392 млрд. рублей в формирование институтов развития и промышленных корпораций, а также 671 млрд. рублей на целевые программы), а в темпах экономического роста планирует замедление. По оценке самого правительства все эти меры по масштабному наращиванию инвестиций в развитие дадут всего лишь 1% ВВП, в том числе за счет стимулирования НТП — 0,5%! Это значит, что в правительстве не знают, как эффективно потратить деньги. Я, как специалист в области научно-технического прогресса, убежден, что при грамотном управлении выделяемыми деньгами можно получить не 0,5%, а 5% ВВП. Правительство просто не обладает должной квалификацией, чтобы выстроить современную систему управления развитием экономики.
— Правительство не только создает институты развития, но и проводит политику госхолдингизации, то есть заменяет собой частный бизнес. Нам это надо?
— Сейчас правительство предлагает собрать все, что выжило после чубайсовской приватизации, в крупные промышленные объединения. Это нужно было делать 15 лет назад. Мы тогда добивались принятия закона «О финансово-промышленных группах». Сегодня большая часть нашего машиностроения, включая тяжелое машиностроение, приборостроение, станкостроение, погибла. Власть наконец спохватилась и начала собирать то, что выжило. Но опять-таки главная проблема заключается не в том, чтобы собрать заводы одной отрасли в объединенную корпорацию, а в том, как эта корпорация будет работать. Вот, например, ОАК в качестве своего приоритета объявило «Суперджет», который пока не летает. На второй план задвинуты современные, уже освоенные производством машины Ту-204 и Ил-96. Они ничем не хуже «Боингов» и «Аэробусов». Но мы в год производим вместо 100 самолетов 10, а при таком малом выпуске невозможно наладить их обслуживание. Главная проблема, которую государство давно должно было решить, — создание системы кредитования лизинга самолетов. Вместо этого начали строить новый самолет, который на две трети будет состоять из импортных ком плектующих. Собственно российскими в нем будут сборка и корпус. В итоге вместо реанимации современного авиастроения мы добровольно загоняем себя в нишу сырьевого придатка, пусть и в высокотехнологическом секторе. Если авионика и двигатели импортируются, мы теряем главные составляющие добавленной стоимости и источники генерирования экономической активности в больших секторах наукоемкой промышленности.
— Это должно делать именно государство? Бизнес ведь эффективнее — он собственник, а государство присылает чиновников, для которых это чужой бизнес.
— Все делают люди, которые могут работать по-разному и в частных, и в государственных корпорациях. Надежды идеологов приватизации на эффективного частника в условиях отсутствия добросовестной конкуренции провалились. Об этом можно судить, например, по итогам приватизации нефтяной промышленности, витрине нашего капитализма, в которой производительность труда упала в четыре раза.
— Для перехода на инновационный путь развития нужна инициатива бизнеса. Какова ваша позиция в нынешнем споре вокруг налоговых реформ и судьбы НДС?
— Я считаю, что НДС — рудимент политики, разрабатывавшейся в условиях галопирующей инфляции. НДС был инструментом обеспечения финансовой стабильности, когда государство не успевало индексировать акцизы, не было природной ренты из-за низких цен на нефть и газ, предприятия не показывали прибыль. Сейчас все по-другому. Мы получаем огромную природную ренту. Внедренная мною в 1992 г. экспортная пошлина на вывоз сырья дает четверть доходов бюджета. А вместе с НДПИ природная рента дает половину всех доходов. Мы добились реализации главного требования нашей предвыборной программы по изъятию природной ренты в бюджет государства. Так давайте теперь воспользуемся этим для снижения налогов и освободим экономику от НДС. Он раскручивает маховик инфляции, угнетает экономическую активность, порождает злоупотребления и тормозит экономический рост. Этот налог — своеобразный штраф за создание добавленной стоимости. При этом его начисление в будущем году ожидается в 16 трлн. рублей (46% ВВП), а вычеты из него составляют 14,8 трлн. рублей (42,5% ВВП) — целая армия бухгалтеров перелопачивает для этого половину соз даваемой в стране стоимости! Имея в прошлом году профи цит в 2 трлн. рублей, мы могли бы без проблем отказаться от НДС, поступления которого в федеральный бюджет в будущем году планируются в сумме 1,2 трлн. рублей — более чем в 10 раз меньше, чем начисляется!
Что касается налога с продаж, он не генерирует инфляцию по всем технологическим цепочкам, а является налогом на потребление. Он гораздо лучше администрируется и работает на местные и региональные бюджеты.
Опубликовано в газете «Газета» 14 мая 2007 г.
Воспроизводится с сокращениями
ОТ РАЗГОВОРОВ О КОНВЕРТИРУЕмОСТИ РУБЛЯ НУЖНО ПЕРЕйТИ К ДЕйСТВИю
Выступление главы комитета Торгово-промышленной палаты России по содействию внешнеэкономической деятельности: «О мерах по переходу к внешней конвертируемости рубля и проблемах использования рубля в международных расчетах»
Проблемы на пути конвертируемости рубля сегодня остаются примерно теми же, какими были пятнадцать лет назад, когда мы начинали этот путь. Я помню осень 1991 года, когда российское правительство и Центральный банк готовили меры по переходу к конвертируемости рубля — как условие для либерализации внешней торговли. Тогда много было опасений. К счастью, благодаря стопроцентной продаже валютной выручки удалось очень быстро добиться относительной стабилизации рынка. Но затем планы по переходу к внешней конвертируемости были заброшены, и мы вступили в целую полосу хаотичных и весьма опасных для экономики волн, колебаний курса рубля, связанных с изменениями политики Центрального банка по его регулированию.
Сразу же после перехода к рыночному формированию курса рубля он резко упал, подстегнув и без того галопирую щую инфляцию. Затем, чтобы ее сбить, денежные власти стали использовать курс рубля в качестве так называемого номинального якоря, сдерживая его падение по отношению к темпу инфляции. Следствием многократного повышения реального курса рубля в 1993—1994 гг. стало полуторакратное падение объема промышленного производства. Столь резкие колебания реального курса рубля сильно повлияли на здоровье всего реального сектора. Затем были финансовые пирамиды, в том числе пирамида ГКО, через которую огромные деньги, проходя через российскую банковскую систему с завышенными процентными ставками, переливались на валютный рынок и уходили из страны. Это послужило причиной крупномасштабной дестабилизации финансовой системы в 1998 г. и краха всей политики макроэкономической стабилизации.
Сейчас у меня создается впечатление, что наши денежные власти, набив экономике шишек и сделав огромное количество ошибок, решили пойти по самому простому пути — снять с себя все возможные риски, связанные с денежной политикой. Платой за это стала удивительная примитивизация нашей денежной политики, которая свелась к тому, что эмиссию рубля просто привязали к объему золотовалютных резервов. Руководители Центрального банка и Министерства финансов вообще забыли о том, зачем нужны стране банковская система и Центробанк, фактически перейдя к режиму «валютного правления» (currency board), при котором свобода денежных властей по управлению денежной эмиссией ограничена приростом валютных резервов.
Платой за столь непоследовательную политику стал вывоз примерно 600 млрд. долларов капитала из страны нелегально и около 250 млрд. долларов вполне легально. Судя по нынешней политике Центрального банка и наших денежных властей в целом, столкнувшись с такого рода издержками, они вообще решили отказаться от фундаментальных принципов самостоятельного управления собственной денежной политикой. Возникли своеобразные мифы, которые оправдывают эти провалы и мешают нам разобраться в причинно-следственных связях.
Почему так получилось, что сбережения наших граждан перетекли в доллары? Почему Центральный банк нарушил тогда закон о валютном контроле, который предусматривал конвертируемость рубля только по текущим операциям, и от
крыл полную свободу для перетока сбережений из рублей в доллары? Все эти ошибки остались за рамками экономических дискуссий, вместо этого так же возникли мифы. В частности, миф о том, что у нас эмитируется слишком много денег.
На фоне настойчивых усилий денежных властей по стерилизации кажущейся им избыточной денежной массы реальный сектор задыхается от нехватки денег. Доходы населения остаются очень низкими. Сбережения, как известно, дважды были обесценены. При этом у наших финансовых руководителей сформировалось мифологизированное представление о том, что в стране слишком много денег и периодически нужно, как они выражаются, стерилизовать денежную массу для того, чтобы избежать высокой инфляции. Забывая о том, что вопрос инфляции для правительства — это прежде всего вопрос антимонопольной, а не денежной политики. Если нет конкуренции в экономике и не работает главный механизм, который обеспечивает эффективное распределение ресурсов, то получается, как в автомобиле, работающем на холостом ходу: чем больше вы давите газ, тем больше греется машина, а движения никакого не происходит.
Но причинно-следственные связи остаются за пределами понимания денежных властей, и политика проводится самым примитивным образом. Действительно, если в экономике нет конкуренции и монополист имеет возможность произвольно завышать цены, то любая денежная эмиссия автоматически ведет к тому, что монополисты просто усиливают злоупотребление своим положением на рынке. Если бы у нас была добросовестная конкуренция и монополисты не имели возможности наживаться на завышении цен, а извлекали прибыль за счет расширения производства товаров, тогда бы реально возникла и вторая часть известного монетаристского уравнения, связывающая объем денег с объемом товарной массы, о которой денежные власти почему-то забывают.
Задача денежных властей заключается в создании механизмов авансирования денежного роста. Собственно, современный экономический рост начался тогда, когда Центральные банки появились и научились организовывать кредит в экономике. Существует множество примеров того, как страны грамотно управляют денежными потоками, стимулируют рост производства. Европейское послевоенное экономи ческое чудо было, например, основано на хорошо известном механизме рефинансирования коммерческих банков под учет векселей производственных предприятий. При этом внутренняя конвертируемость в Европе шла вслед за внешней, а не наоборот, как у нас.
Пример успешного подъема экономики Китая, где главным источником инвестиций является денежное предложение Центрального банка через Китайский банк развития и другие государственные коммерческие банки, говорит о том, что если мы правильно понимаем задачи денежно-кредитной политики, то можно добиться огромных успехов в области экономического роста. У нас же ЦБ вместо расширения объема кредитных ресурсов в экономике, стимулирования экономического роста, предоставления возможности предприятиям иметь доступ к кредитам, делает все, чтобы сократить предложение национальной валюты и превратить ее в суррогат иностранной, привязав к валютным резервам. Такой подход ведет к дестимуляции спроса на собственную валюту. Все страны стимулируют спрос на свою валюту, а мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы спрос сокращался.
Говоря о конвертируемости рубля, мне приходит на ум пример Европейского союза, когда там, начав внедрение евро, столкнулись с резким падением его курса. Тогда председатель Еврокомиссии Романо Проди, приехав в Москву, уговаривал наши финансовые власти изменить структуру валютных резервов в России и расширить долю евро в валютных резервах. У меня с ним была беседа и на вопрос: «А согласится ли Европейский Центральный банк в этом случае дать сигнал банковскому сообществу Европы открыть рублевые счета и начать работать с рублями?» — Проди ответил: «Почему бы и нет. Давайте торговать в национальных валютах».
Прошло три года. Как мы и прогнозировали, доллар упал, к удивлению наших денежных властей, неспособных даже к краткосрочному прогнозированию. О том, что доллар будет падать, специалисты говорили уже пять лет назад, основываясь на американском платежном балансе и куммулятивной эмиссии долларов, понимая, что американцы больше не контролируют курс собственной валюты, в основе которого лежит лишь спрос и предложение на мировых рынках. Мы тогда прогнозировали, что доллар будет падать и евро в конце концов выровняется. У нас был уникальный шанс — догово риться с Евросоюзом по сути о введении полноценной внеш ней конвертируемости рубля. Ведь этот вопрос во многом зависит от договоренности Центральных банков: признают они валюту друг друга или нет в качестве нормальной денежной единицы.
В итоге евро действительно выровнялся, как и прогнозировалось. И что теперь Романо Проди говорит о конвертируемости рубля? В последний раз, когда он был в Москве, отвечая на мой аналогичный вопрос, он заявил: «Я не вижу проблем, но это ваши проблемы, это ваша внутренняя проблема, как хотите, так и добивайтесь конвертируемости рубля. Нас этот вопрос не интересует». Шанс был, таким образом, упущен.
Постепенная девальвация доллара обусловлена объективными причинами избыточной эмиссии этой валюты на мировом рынке. Замечу, что 60% эмиссии в долларах направляется за рубеж, и сегодня объем долларовой массы за пределами Америки превышает объем долларовой массы внутри США. Финансовые власти Соединенных Штатов в этой ситуации слабо контролируют спрос и предложение долларов. Они не могут остановить эмиссию долларов, потому что вынуждены бесконечно обслуживать нарастающие долговые обязательства. Как известно, объем эмиссии американских долговых обязательств тесно связан с объемом эмиссии долларов. Поскольку США вынуждены занимать все больше и больше денег, чтобы обслуживать старые обязательства, они не могут остановиться с печатанием своей валюты. А спрос на доллары обусловлен многими внешними факторами, которые они не контролируют. Это и цены на нефть, это и политика других стран по формированию валютных резервов. Это, в конце концов, объективные факторы, обусловливающие спрос на кредитные ресурсы, которые довольно сильно колеблются из-за продолжающегося в ряде секторов мировой экономики кризиса. Сегодня действует очень много факторов, которые снижают спрос на эту валюту. Следовательно, девальвация будет продолжаться.
В сложившейся ситуации у нас есть уникальный шанс прорваться в число мировых резервных валют. Для чего это нужно? Это нужно прежде всего для расширения мощности нашей финансовой системы. Чем больше мы денег имеем в национальной валюте, тем больше возможностей у наших предприятий для получения кредитов.
Если рубль признается мировой валютой, то нас уже не волнует вопрос вывоза капитала, который будет приобретать рублевую форму. Рубли будут продолжать работать на российскую экономику, находясь за рубежом. Так же, как доллары, находящиеся в России, работают на американскую экономику. Поэтому если мы добиваемся использования рубля в международных расчетах, то мы тем самым во многом снимаем напряжение с вывозом капитала и резко расширяем возможности предложения денег в нашей экономике.
Что для этого нужно делать? Конечно, здесь нужен комплекс мер. Некоторые из них, правда, реализуются через пеньколоду. Речь, в частности, идет о гарантиях по банковским вкладам. Необходимо людям вернуть уверенность в том, что рублевые вклады в коммерческих банках — это надежный способ сбережений. Но самых быстрых результатов можно добиться именно путем перехода к внешней конвертируемости рубля, работая с российским платежным балансом и стимулируя разными способами наших экспортеров, в особенности нефти и газа, переходить к торговле за рубли. Резко расширится спрос на рубли, что позволит нам существенно, в разы, поднять денежное предложение. Это, в свою очередь, приведет к тому, что рубль в СНГ и ЕС автоматически перейдет в разряд одной из резервных валют. Тем самым мы сможем существенно улучшить условия предоставления кредитов нашей экономике, снизить процентную ставку. Ведь, в конечном счете, эффективность банковской системы определяется тем, может ли платежеспособное предприятие взять кредит под низкие процентные ставки. Как российская экономика может конкурировать с европейской или американской, когда наши предприятия платят за кредит в несколько раз дороже, а часто вообще получить его не могут?
Разумеется, одним из условий международного признания рубля является его стабильность, соответственно подавление инфляции. Для этого нужна эффективная антимонопольная политика, блокирующая произвольное завышение цен монополистами и заставляющая их работать, получая прибыль за счет роста производства. И, таким образом, выровнять хотя бы условия конкуренции.
Примитивная политика, которая сегодня проводится Центральным банком вместе с правительством по стерилизации денежной массы, ведет к тому, что смысл существования банковской и денежно-кредитной системы в стране утрачивает ся. Сейчас финансовое обслуживание прибыльных отраслей нашей экономики выводится за границу. Скоро может оказаться, что наша банковская система вообще никому не будет нужна. Нефтяники давно уже берут кредиты за рубежом — у них хорошая репутация платежеспособных заемщиков; процентные ставки по кредитам, которые привлекаются из европейских или американских банков, гораздо ниже, чем у наших. Поэтому нашим экспортно ориентированным сырьевым корпорациям гораздо выгоднее обслуживаться за рубежом, чем в российских банках. Тем более что и валюту теперь уже продавать не надо и можно все трансакции вести за пределами России. Наши корпорации и граждане переходят на зарубежное финансовое обслуживание. Нужно нам это?
Хочу подчеркнуть, что в условиях рыночной экономики главным инструментом экономического роста в руках у государства является банальная денежная эмиссия. И вопрос, как она организована, является фундаментальным для экономического роста. Если она организована чисто спекулятивным образом, как сейчас, то у предприятий нет источников для развития. Если она организована эффективно — через предоставление механизмов кредитования производственной сферы, тогда она является мощнейшим источником экономического роста. Конечно, для этого нужна очень взвешенная и гораздо более сложная денежная политика, чем сейчас. Скажем, когда Центральные банки Германии и Франции поднимали после войны свои хозяйственные системы, они вели мониторинг платежеспособности нескольких тысяч предприятий. Это большая и трудоемкая, но необходимая работа, потому что нельзя давать кредиты под залог векселей кого угодно. Давать можно только тем, кто возвращает кредиты. А для этого нужно вести мониторинг предприятий. Наши денежные власти этим не занимаются.
В заключение подчеркну: сейчас есть уникальная возможность для перевода рубля в разряд одной из мировых валют. Ключ к этому — наши взаимоотношения с Евросоюзом и СНГ, а также отказ от доллара как средства сбережений. Думаю, такой шанс грех было бы упустить. Чтобы перейти к полноценной внешней конвертируемости рубля, не нужно ждать пять или десять лет — это нужно делать именно сейчас.
Опубликовано на сайте: www.glazev.ru 19 апреля 2006 г.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИй ОТВЕТ ЛИБЕРАЛЬНОй ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Полтора десятилетия человечество развивается в условиях глобализации, растворяющей национальные границы и подрывающей сложившиеся механизмы государственного регулирования экономики и социальной среды. Разрушению подвергаются в том числе институты социального государства, обеспечивавшие до последнего времени благополучное и стабильное существование развитых демократий.
Современная глобализация направляется ультралиберальной идеологией, отвергающей социальные достижения, завоеванные социалистическим движением во многих странах мира. Социалистическому интернационалу брошен вызов, ответ на который тоже должен быть дан в глобальном масштабе. Либо вырвавшийся за пределы национальных ограничений капитал в погоне за сверхприбылями расколет человечество на враждующие по разным поводам группы и общности, либо социалистическому движению удастся создать глобальные механизмы гармонизации социально-экономических отношений на началах партнерства, взаимного уважения, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, признания права каждого человека и каждого народа на достойную жизнь.
Вызовы глобализации
С крахом глобальной коммунистической системы и торжеством либеральной глобализации «конца истории» не наступило. Наоборот, разлагающее воздействие либеральной глобализации на национальные социально-культурные системы развивающихся стран вызвало оборонительную реакцию последних. Она выразилась в подъеме религиозного фундаментализма и появлении глобального терроризма. В свою очередь, демонтаж и ослабление институтов государственного регулирования под воздействием доктрины вульгарного либерализма и рыночного фундаментализма привели к при-
митивизации социально-культурной и экономической поли тики развитых государств. Это обернулось эрозией основополагающих ценностей современного общества и регрессом многих составляющих его социальных групп. «Столкновение цивилизаций» перерастает в их усиливающийся конфликт по всему фронту взаимоотношений.
Эрозия национально-государственных институтов существенно ослабила возможности преодоления экономических противоречий и разрешения вызываемых ими конфликтов: между бедными и богатыми, образованными и неграмотными, законопослушными и склонными к правонарушениям. Эти конфликты начинают приобретать глобальный характер, а действенных механизмов их преодоления так до сих пор и не создано. Такие конфликты усугубляются мировоззренческими противоречиями, возникающими на религиозной или национально-культурной основе. Вкупе с самими конфликтами данные противоречия порождают «гремучую смесь», способную взорваться в любой момент.
Либеральная глобализация переводит на общепланетарный уровень проблемы, разрешавшиеся ранее национальными институтами социального государства. С эрозией последних подобные проблемы начинают разрывать социальную ткань развитых государств, неожиданно столкнувшихся с новыми для себя конфликтами. Дестабилизируется ядро современной мировой экономической системы, что чревато разрушением основ нынешнего миропорядка. Для предотвращения глобального хаоса необходимы срочные меры упорядочивания и гармонизации социально-культурных и экономических отношений в мировом масштабе.
Принципы гармонизации глобальных социально-экономических отношений
Гармонизация может быть достигнута только на основе фундаментальных ценностей, разделяемых всеми основными культурно-цивилизационными общностями. К числу таких ценностей относятся принцип недискриминации (равенства людей) и декларируемая всеми конфессиями любовь к ближнему без разделения человечества на «своих» и «чужих». При таком понимании она может быть выражена в поняти ях справедливости и ответственности, в юридических формах прав и свобод граждан.
Понимание фундаментальной ценности человеческой личности и равенства прав всех людей вне зависимости от их вероисповедания, национальной, классовой и какой-либо еще принадлежности должно быть признано всеми конфессиями. Основанием для этого, во всяком случае в монотеистических религиях, являются представление о единстве Бога и указание каждой личности пути ее спасения. Поэтому реально — хотя, конечно, и совсем непросто — начать нейтрализовывать принудительно-насильственные формы межрелигиозных и часто спровоцированных именно конфессиональными нестыковками межнациональных конфликтов. По крайней мере, выразить твердое намерение перевести их в плоскость идеологически свободного выбора каждого человека. Для этого необходимо выработать правовые формы участия конфессий в общественном жизнеустройстве и разрешении разного рода социальных проблем. Определенный опыт в данной области на уровне государственно-конфессиональных отношений накоплен Ватиканом, имеющим договорно-правовые отношения со многими государствами.
Особое значение имеет установление правовых форм участия религиозных организаций в вопросах местного самоуправления, начального и среднего образования, а также в общественном контроле над СМИ. Государству следует обеспечить представителям разных конфессий доступ к электронным СМИ и их участие в обсуждении общественно значимых проблем. В свою очередь, предоставление конфессиям законных прав на участие в выработке социально значимых государственных решений наложит на них обязанность удерживать поведение верующих в рамках законодательно установленных норм, исключающих насилие, принуждение, провоцирование социальных конфликтов, включая их крайние проявления в форме террористических актов, вандализма, погромов и пр.
Вовлечение конфессий в формирование социальной политики подведет под государственные решения нравственное основание. Это поможет обуздать дух вседозволенности и распущенности, доминирующий ныне в элите развитых государств, восстановить понимание социальной ответственности власти перед обществом. Пошатнувшиеся сегодня ценности социального государства получат мощную идеологическую поддержку. Гарантии на труд и достойную его оплату, на получение бесплатного образования и охрану здоровья, на жилище, обеспечение детей, инвалидов и стариков, а также на помощь нуждающимся будут защищаться не только социалистическими партиями, но и религиозными организациями. Примером такого подхода является социальная доктрина Русской православной церкви. В свою очередь, политическим партиям придется признать значение фундаментальных нравственных ограничений, защищающих основы человеческого бытия. В том числе решительно выступать против наркоторговли и торговли людьми, а также согласиться с необходимостью запрета гомосексуализма и порнографии.
Причастность конфессий к формированию государственной политики подведет также нравственно-идеологическое основание под политику предотвращения этнонациональных конфликтов и создаст предпосылки для перевода межнациональных противоречий в конструктивное русло. Эти противоречия возникают на основе ощущения несправедливого, угнетенного положения тех или иных национальных групп, когда они не находят отражения своих интересов в деятельности государственных и политических институтов. В редких случаях совместного существования крупных национальных общин гармонизация их отношений может быть достигнута на основе национально-пропорционального представительства в органах власти (Малайзия) или национально-федеративного (конфедеративного) устройства (Евросоюз). Вовлечение же в процесс преодоления межнациональных противоречий конфессиональных структур при условии участия последних в формировании социальной политики существенно облегчит поиск максимально сбалансированных решений в данной области. Религиозные организации усилят специфические внутрикорпоративные и институциональные приемы воздействия на своих приверженцев инструментарием государственной социальной политики.
Принцип недискриминации требует существенного ограничения свободы действия рыночных сил, ущемляющих большинство граждан в их возможности иметь доступ к материальным благам. Либеральная глобализация по сути обез
оружила государства, сделав их неспособными влиять на распределение национального дохода и богатства. Транснациональные корпорации монополизировали контроль над перемещением ресурсов, ранее являвшийся прерогативой государств. Последние оказались вынужденными снижать степень социальной защищенности граждан, чтобы сохранять привлекательность своих экономик для инвесторов. Одновременно упала эффективность государственных социальных инвестиций, потребители которых фактически как бы утратили национальную принадлежность. В результате произошла буквально обвальная дифференциация граждан по уровню доходов и причастности к материальным благам.
Для преодоления этих разрушительных тенденций необходимо ограничить возможности капитала уходить от социальной ответственности, с одной стороны, и начать выравнивать издержки социальной политики национальных государств — с другой.
Сужение коридора, через который капитал увиливает от своей социальной ответственности, предполагает ряд мер. Среди них — ликвидация офшорных зон, позволяющих капиталу избегать выполнения налоговых обязательств, а также признание права национальных государств регулировать трансграничное перемещение капитала.
Выравнивание социальных издержек различных государств может строиться только на основе формирования глобальных минимальных социальных стандартов, на основе опережающего повышения уровня социального обеспечения населения относительно бедных стран, а не наоборот. Для этого должны заработать международные механизмы выравнивания уровня жизни, что предполагает создание соответствующих инструментов их финансирования.
Формирование глобальных механизмов социальной защиты
Для финансирования международных механизмов выравнивания уровня жизни населения следует ввести налог на валютообменные операции в размере 0,01% от размера трансакций. Этот налог (суммой до 5 трлн. долларов) может взиматься на основе соответствующего международного согла шения в рамках национальных налоговых законодательств и перечисляться в распоряжение уполномоченных международных организаций. В их числе — Красный Крест (на предупреждение и преодоление последствий гуманитарных катастроф, вызванных стихийными бедствиями, войнами, эпидемиями и пр.); Всемирная организация здравоохранения (на предотвращение эпидемий, снижение детской смертности, вакцинацию населения и пр.); Международная организация труда (на организацию глобальной системы контроля над выполнением норм техники безопасности, соблюдением общепринятых норм трудового законодательства, включая оплату труда не ниже прожиточного минимума и запрет на использование детского и принудительного труда, а также контроля за трудовой миграцией); Мировой банк (на строительство объектов социальной инфраструктуры: водоснабжение, дороги, канализация и пр.); ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) (на программы передачи технологий развивающимся странам); ЮНЕСКО (на поддержку международного сотрудничества в сфере науки, образования и культуры, на защиту культурного наследия). Расходование этих средств должно вестись на основе соответствующих бюджетов, утверждение которых можно делегировать Генеральной Ассамблее ООН.
Должна быть создана также глобальная система защиты окружающей среды, финансируемая за счет нарушителей правил и норм природопользования. Для этого целесообразно заключить соответствующее международное соглашение, предусматривающее универсальные размеры штрафов за загрязнение окружающей среды. Такие штрафы должны перечисляться на экологические цели в соответствии с национальным законодательством и под контролем уполномоченной международной организации, которой надлежит адресно использовать часть этих средств для проведения глобальных экологических мероприятий и организации мониторинга состояния окружающей среды. Альтернативный механизм может быть организован на основе оборота квот на загрязнение путем запуска механизмов Киотского протокола и расширения сферы его применения.
Принципиальное значение имеет создание глобальной системы ликвидации безграмотности и обеспечения досту па всех жителей планеты к информации и получению современного образования. Создание такой системы должно предусматривать унификацию минимальных требований к всеобщему начальному и среднему образованию. Для достижения данных требований потребуются дотации слаборазвитым странам. Дотации могут поступать из средств, собираемых посредством предложенного выше налога на валютообменные операции. Необходимо создать доступную для любого человека систему предоставления услуг высшего образования ведущими вузами развитых стран. Последним следовало бы по своему усмотрению выделять квоты на прием иностранных студентов, набираемых по международному конкурсу с оплатой обучения из налога на валютообменные операции. Параллельно силами входящих в эту систему вузов должна быть развернута глобальная сеть дистанционных бесплатных образовательных услуг, открытая для каждого желающего со средним образованием. Создание и поддержание соответствующей информационной инфраструктуры может быть возложено на ЮНЕСКО и Мировой банк с финансированием за счет налога на валютообменные операции.
Стабилизация мировой экономики
Формирование глобальной системы выравнивания уровня жизни населения предполагает упорядочивание глобальных финансово-экономических отношений на основе принципа взаимной выгоды и добросовестной конкуренции, исключающей возможность монополизации тех или иных функций регулирования международного экономического обмена в чьих-либо частных или национальных интересах. Увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми странами, разрыв, создающий угрозу развитию и самому существованию человечества, воспроизводится и поддерживается путем присвоения ряда функций международного экономического обмена национальными институтами ведущих государств, действующих исходя из их собственных интересов. Они монополизировали эмиссию мировой валюты, присваивая эмиссионный доход и обеспечивая неограниченный доступ к кредиту своим банкам и корпорациям. Эти структуры устанавливают технические стандарты, обеспечивая тем самым технологическое
превосходство своей промышленности. Они навязали всему миру выгодные им правила международной торговли, заставив другие государства открыть свои рынки и резко ограничить собственные возможности поддерживать конкурентоспособность национальных экономик.
Монополизация важнейших функций мирового экономического обмена поддерживается развитыми государствами посредством деятельности контролируемых ими глобальных институтов (МВФ, Мировой банк, ВТО, МАГАТЭ, РКРТ — Режим контроля над ракетными технологиями и др.) и дает им возможность неэквивалентного перераспределения глобального дохода в свою пользу посредством доминирующего положения их ТНК в основных сегментах мирового рынка. Дальнейшее поддержание сложившегося неэквивалентного режима международного экономического обмена лишает преобладающую часть человечества возможности успешного социально-экономического развития и провоцирует угнетаемые общества на деструктивные действия по разрушению бесперспективного для них мирового порядка.
Обеспечение устойчивого и успешного для человечества в целом социально-экономического развития требует устранить монополизацию функций международного экономического обмена в чьих-либо частных или национальных интересах. Кроме того, ради гармонизации глобальных общественных отношений и устранения дискриминации в международном экономическом обмене допустимы его глобальные и национальные ограничения.
Ключевым механизмом международного экономического обмена является организация валютно-финансовых отношений. Главная угроза дестабилизации мировой экономики исходит сегодня от бесконтрольной эмиссии выполняющего функции мировой валюты американского доллара в целях обслуживания государственного долга США, принявшего форму глобальной финансовой пирамиды. Для предотвращения глобальной финансовой катастрофы необходимы срочные меры по формированию новой безопасной и эффективной архитектуры мировой валютно-финансовой системы, основанной на взаимовыгодном обмене национальных валют и исключающей присвоение глобального эмиссионного дохода в чьих-то частных или национальных интересах. Коммерче ским банкам, обслуживающим международный экономический обмен, необходимо вменить в обязанность проводить операции во всех национальных валютах. При этом курсы их обмена должны устанавливаться по процедуре, согласованной национальными банками в рамках соответствующего международного договора.
При необходимости роль всеобщего эквивалента может играть золото, СДР (расчетная виртуальная валюта Международного валютного фонда — так называемые специальные права заимствований (Special Drawing Rights), — которая в действительности не имеет материального воплощения и реального эквивалента, а применяется как резервный актив в дополнение к золотовалютным позициям стран — членов МВФ) или иные международные расчетные единицы. Соответственно, необходимо изменить функции и систему управления МВФ. На него могла бы быть возложена ответственность за мониторинг курсообразования национальных валют, а также роль эмитента мировой валюты, используемой для чрезвычайного кредитования временных дефицитов платежных балансов отдельных государств и их национальных банков в целях предотвращения региональных и мировых валютно-финансовых кризисов и поддержания стабильных условий международного экономического обмена.
Совместно с Базельским институтом МВФ способен также выполнять функции глобального банковского надзора, устанавливая обязательные нормативы для всех коммерческих банков, обслуживающих международный экономический обмен. Для этого следует демократизировать систему управления МВФ, все государства — участники которого должны получить равные возможности. Это необходимо также для придания МВФ права исключать банки и государства, нарушающие установленные нормы валютно-финансовых отношений, из общей системы международных расчетов. Данная мера защитит систему международного экономического обмена не только от произвола отдельных государств, но и от валютных спекулянтов. Она также позволит закрыть офшорные зоны, используемые для отмывания денег, финансирования международной преступности и ухода от налогов.
В целях выравнивания возможностей социально-экономического развития необходимо обеспечить свободный доступ развивающихся стран к новым технологиям при условии их отказа от использования получаемых технологий в военных целях.
Государства, согласившиеся на это ограничение и открывшие доступ к информации о своих военных расходах, должны выводиться из-под ограничений международных режимов экспортного контроля. Им также должна оказываться помощь в получении необходимых для их развития новых технологий. Для этого должна быть резко активизирована деятельность ЮНИДО (в том числе по созданию соответствующей информационной сети) и Мирового банка, который станет предоставлять кредитные ресурсы, эмитируемые МВФ, для долгосрочного финансирования необходимых для развивающихся стран инвестиционных проектов освоения современных технологий и создания соответствующей им инфраструктуры. Доступ к этим ресурсам на тех же условиях рефинансирования должны получить и международные региональные банки развития.
В целях обеспечения добросовестной конкуренции необходимо ввести международный механизм пресечения злоупотреблений ТНК монопольным положением на рынке. Соответствующие функции антимонопольной политики могут быть возложены на ВТО на основе специального обязательного для всех государств — членов международного соглашения. Этим соглашением следует предусмотреть право субъектов международного экономического обмена требовать устранения злоупотреблений доминирующим положением на рынке со стороны ТНК, а также компенсации вызванных подобными злоупотреблениями потерь за счет введения соответствующих санкций. В число таких злоупотреблений наряду с завышением или занижением цен, фальсификацией качества продукции и другими типичными примерами недобросовестной конкуренции должно входить занижение оплаты труда по отношению к региональному прожиточному минимуму, подтвержденному МОТ. Необходимо установить процедуры регулирования цен и добиться признания этих процедур естественными глобальными и региональными монополиями.
В условиях неэквивалентного экономического обмена государствам должна быть оставлена достаточная свобода регулирования национальных экономик в целях выравнивания уровней их социально-экономического развития. Наряду с принятыми в рамках ВТО механизмами защиты внутреннего рынка от недобросовестной внешней конкуренции, инструментами такого выравнивания являются: разнообразные способы стимулирования научно-технического прогресса и государственной поддержки инновационной и инвестиционной активности, установление государственной монополии на использование природных ресурсов, введение норм валютного контроля в целях ограничения вывоза капитала и нейтрализации спекулятивных атак против национальной валюты, удержание под национальным контролем важнейших секторов национальной экономики; другие формы повышения национальной конкурентоспособности.
Особое значение имеет обеспечение добросовестной конкуренции в информационной сфере, включая средства массовой информации.
Доступ в глобальное информационное пространство должен быть гарантирован всем жителям планеты в качестве как потребителей, так и поставщиков информации.
Для поддержания открытости этого рынка следует применять жесткие антимонопольные ограничения, не позволяющие какой-либо стране или группе аффилированных лиц доминировать в глобальном информационном пространстве. Одновременно необходимо создать благоприятные условия для свободного доступа на рынок информационных услуг представителям различных культур. Здесь существенную поддержку в состоянии оказывать ЮНЕСКО за счет поступлений предложенного выше налога на валютообменные операции и платежей за доступ к ограниченным информационным ресурсам (часть которых, включая точки для запуска спутников связи на орбиту Земли, может быть предоставлена этой организации). Одновременно надлежит принять международные нормы по пресечению распространения информации, угрожающей социальной стабильности (призывы к разжиганию религиозной и межнациональной розни, распространение наркотиков, торговля людьми, проституция и торговля оружием, различные сатанинские и тоталитарные секты и пр.).
Для соблюдения всеми участниками международного экономического обмена установленных международных и национальных норм должен действовать обязательный для всех ре-
жим санкций за их нарушение. Для этого требуется заключить международное соглашение по исполнению судебных решений, выносимых в отношении участников международного экономического обмена вне зависимости от их национальной принадлежности. При этом необходимо предусмотреть возможность апелляции к международному суду, решения которого являются обязательными для всех государств.
Правовые и политические предпосылки глобальной социалистической альтернативы Введение обязательных для всех участников международного экономического обмена норм и санкций за их нарушение (так же, как и санкций за нарушение норм национальных законодательств) предполагает примат международных соглашений над национальным законодательством. Государства, нарушающие этот принцип, должны ограничиваться в правах на участие в международном экономическом обмене. В частности, их национальная валюта не должна приниматься в международных расчетах, в отношении их резидентов допустимы меры экономического воздействия, а деятельность самих государств на мировом рынке может ограничиваться.
Главная проблема заключается в том, что одним из таких государств являются США. Решить данную проблему в состоянии лишь согласованные действия других ведущих держав, которые бы вынудили США признать презумпцию международного права. Это принуждение подразумевает возможность применения санкций, наиболее действенной из которых может стать отказ от использования доллара в международных расчетах. В любом случае без установления формального равноправия всех государств полноценное функционирование охарактеризованных выше механизмов гармонизации глобальных общественных отношений невозможно.
Для реализации названных здесь инициатив необходима влиятельная транснациональная политическая сила. В качестве таковой может выступить международное объединение левых сил (прежде всего организованных в Социнтерн), «зеленых», гуманитарных организаций. Чрезвычайно важна и поддержка со стороны духовного руководства мировых религий. Объединение усилий левых, «зеленых» и конфессиональных сил требует выработки новой глобальной идеологии гармонизации общественных отношений на основе сочетания традиционных нравственных ценностей, принципов социальной справедливости и партнерства, понимания необходимости устойчивого развития человечества при сохранении разнообразия и упорядочении ноосферы, соблюдения прав и свобод человека, норм международного права, действия механизмов добросовестной конкуренции и взаимовыгодного международного экономического обмена. Такой социально-консервативный синтез может быть выработан на серии представительных международных форумов, инициатором которых способен стать Социнтерн. В последующем усилиями заинтересованных политических и общественных сил вопросы гармонизации глобальных общественных отношений на началах общепланетарной ответственности, национальной конкурентоспособности и международной солидарности должны быть внесены в повестку дня официальных международных переговоров. Вначале — ведущих государств мира, а затем —Генеральной Ассамблеи ООН.
Работу по формированию социально-консервативного синтеза следует проводить одновременно по нескольким направлениям с участием ведущих экспертов, пользующихся международным авторитетом. Данные направления охватывают самые разные сферы. Это, во-первых, организация диалога между социалистическими (социал-демократическими) программами и социальными доктринами мировых религий. Во-вторых, разработка предложений по формированию новой архитектуры глобальных финансово-экономических отношений. В-третьих, формирование условий обеспечения добросовестной конкуренции в международном экономическом обмене. В-четвертых, создание механизмов выравнивания социальных издержек национальных государств посредством развертывания соответствующих глобальных программ под эгидой компетентных международных организаций за счет введения глобального налога на валютообменные операции. И, наконец, впятых, обеспечение условий для открытого международного технологического и информационного обмена.
Опубликовано в журнале «Политический класс». 2006. № 21.
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЭКОНОмИЧЕСКИй РОСТ
Общенациональная программа действий
Важнейшая задача политических и общественных организаций народно-патриотического спектра — объединение граждан с целью защиты своего конституционного права на достойную жизнь и свободное развитие, построения взаимоотношений государства и общества на основе социальной ответственности, справедливости и партнерства, приведения социально-экономической политики государства в соответствие с общенародными интересам России, создания условий для достойной жизни каждого жителя нашей страны.
Достойная жизнь предполагает реализацию возможностей каждого человека в созидательном труде, семье, творчестве. Важнейшими условиями для этого является полноценное осуществление прав человека на образование и охрану здоровья в соответствии с современными мировыми стандартами, на свободный доступ к информации и культурным ценностям, на выбор места жительства и свободное передвижение, на достойную оплату туда и на честно приобретенную собственность. Достойная жизнь — это возможность заниматься любимым делом в соответствии с творческими способностями и наклонностями. Это жизнь без принуждения и насилия, защищенная от бюрократического произвола и преступных посягательств. Это, наконец, право верить в Бога и жить в согласии с религиозными установлениями. Иными словами, это жизнь свободной личности, успешно реализующей себя в избранных сферах деятельности и отвечающей за свои поступки перед Господом, обществом, семьей.
Российское государство, провозглашенное в Конституции нашей страны социальным, обязано гарантировать каждому гражданину право на достойную жизнь. Речь идет не только о достаточном финансировании социальной сферы, о достойной оплате труда и размерах пенсий, стипендий, социальных пособий. Должны быть созданы условия для раскрытия творческих способностей каждого гражданина России, для получения полноценного образования, для созидательной работы, для выбора культурной и социальной среды жизнедеятельности в соответствии с духовными и нравственными ценностями. В создании максимально благоприятных условий для спасения души каждого человека и заключается, в сущности, высший смысл существования государства.
Полноценная духовная и творческая жизнь человека определяет его деятельность в обществе и свершения в материальной сфере. В основе экономического роста сегодня лежат способности человека создавать и осваивать новые технологии, получать и применять новые знания, приращение которых стало главным фактором социально-экономического прогресса. Поэтому реальное обеспечение права каждого человека на достойную жизнь — это не только результат, но и необходимое условие успешного экономического, научнотехнического и культурного развития страны.
К сожалению, нынешняя российская власть не выполняет своих главных обязанностей перед народом страны. Проводимая ею политика не способствует достойной жизни граждан, ведет к деградации экономики и социальной сферы. Обнищание большинства населения происходит на фоне вывоза из страны сотен миллиардов долларов сверхприбылей, полученных в результате хищнического использования российских природных богатств, а также эксплуатации работающих по найму граждан, оплата труда которых в несколько раз ниже, чем в развитых странах мира. Без кардинального изменения проводимой в стране политики, приведения ее в соответствие с конституционной обязанностью государства гарантировать каждому гражданину России право на достойную жизнь и свободное развитие переломить тенденции деградации экономического и человеческого потенциала страны не удастся.
До тех пор, пока государство остается коррумпированным, а чиновники — некомпетентными, власть будет недееспособной, паразитической.
До тех пор, пока власть имущие наживаются на присвоении общенародных богатств, руководствуясь личной корыстью, а не общим благом, страна будет разоряться, капиталы — вывозиться, а квалифицированные специалисты — уезжать за рубеж.
До тех пор, пока национальный доход распределяется несправедливо, львиная доля государственных расходов вывозится за рубеж, пока горстка олигархов наживается благодаря эксплуатации принадлежащих всему обществу природных ресурсов, неоправданно низкой оплате труда или завышению цен — нормальное социально-экономическое развитие страны будет невозможно. Низко оплачиваемый труд утрачивает привлекательность, теряет смысл. Лишаясь доходов от принадлежащих обществу природных ресурсов, государство оказывается неспособным выполнить свои обязательства в сферах образования и здравоохранения, что влечет утрату главного источника современного экономического роста — способности общества создавать, осваивать и широко применять новые знания и технологии. Попустительство формированию монополий и их злоупотреблениям оборачивается необоснованным ростом стоимости жизни, обеднением населения, блокированием необходимой для развития экономики конкуренции.
Никакими псевдонаучными объяснениями нельзя оправдать ложь в политике, безответственность государственной власти и обнищание большей части российских граждан. За рассуждениями о необходимости ограничения социальных расходов и «сокращения государства» ради повышения эффективности экономики кроется корыстное желание коррумпированных чиновников и связанных с ними жуликов обогащаться за счет всего общества, некомпетентность и безответственность власти. За ширмой либерально-демократических лозунгов в стране сформирован механизм господства паразитической олигархии и коррумпированной бюрократии, который характеризуется авторитарным произволом в политике, монополизмом в экономике, деградацией социальной сферы и полной безответственностью власти. В результате ее деятельности Россия стремительно опускается на сырьевую периферию мирового рынка, лишаясь миллионов высококвалифицированных специалистов и триллионов рублей капитала, вывозимых за рубеж, утрачивая основные источники экономического роста, теряя национальный суверенитет.
Наша задача — сломать существующую систему круговой поруки корыстолюбивых чиновников и паразитирующих на присвоении национальных богатств олигархов, сформировать реальные механизмы народовластия, обеспечить ответственность в политике, добросовестную конкуренцию в экономике, справедливость в социальной сфере.
. НАРОДОВЛАСТИE
И ОТВЕТСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
1.1. Ответственность — необходимое условие эффективности государства
Главное требование, предъявляемое нами к государству, — эффективное выполнение своих обязательств перед гражданами, в том числе обеспечение права человека на свободное развитие и достойную жизнь, провозглашенное в Конституции России. Решение этой задачи возможно только при наличии механизмов жесткой ответственности находящихся у власти лиц за результаты выполнения ими своих функций. Только так можно избежать вырождения государства, его превращения в репрессивный аппарат, обслуживающий олигархию и подавляющий народное волеизъявление.
Наш и зарубежный исторический опыт позволяет выделить несколько типов государственно-общественного устройства, основанного на различных механизмах ответственности власти перед народом. В монархическом государстве царь несет персональную ответственность перед Богом как его помазанник, которому вверена судьба подданных. Последним предписывается верно служить государю, который, в свою очередь, должен править страной в соответствии с Божьими заповедями. Ясно, что эффективность монархического строя определяется крепостью в вере главы государства, лиц, уполномоченных им выполнять властные функции, а также подданных. При ослаблении веры ставится под сомнение легитимность монархических институтов, подрывается механизм ответственности властей предержащих, разрушается идеологическая основа государства. В этом случае неизбежным становится его распад, сопровождающийся болезненными социальными потрясениями и хаосом.
В аристократическом или партократическом государстве его глава несет ответственность перед властвующей элитой в соответствии с установленными ею процедурами. Бесправному народу остается только надеяться, что правитель и его окружение будут заботиться не только о своем благополучии и о властвующей элите, но и об интересах страны, ее населения, которое отстранено от участия в управлении государством. Как показывает опыт существования такого рода государств (в том числе наш собственный недавний опыт), для них характерна тенденция деградации властвующей элиты, которая игнорирует интересы развития общества, замыкаясь на обслуживании интересов правящего слоя. Вместо должного выполнения государственных функций преследующая свои частные интересы аристократия вырождается в олигархию, а партократия — в номенклатуру. В результате государство утрачивает эффективность и разрушается из-за антагонизма между господствующим классом и народом.
При разрушении традиционных типов государственнообщественного устройства часто возникает диктатура — режим авторитарной власти, опирающейся на прямое насилие и принуждение. В таком государстве его глава отвечает только перед самим собой и действует в соответствии с личным пониманием своего предназначения, ограниченного лишь эффективностью контролируемого им репрессивного аппарата. Вопреки распространенному у нас мнению о благотворности диктатуры, в большинстве случаев всемогущие диктаторы изза естественной ограниченности человеческих возможностей не в состоянии эффективно управлять своими государствами. Принцип компетентности государственных служащих подменяется принципом личной преданности, следствием чего становятся коррупция и безнаказанность склонных к злоупотреблениям чиновников. Диктатура, лишенная идеологического обоснования, не воспринимается обществом как легитимная форма власти и обречена в современных условиях открытого информационного пространства на разрушение с большими или меньшими социально-экономическими издержками.
К концу второго тысячелетия в большинстве развитых стран мира сформировались правовые государства, в которых ответственность власти, а также граждан определяется четко зафиксированными в законодательстве нормами. Правовое государство предполагает разделение власти между независимыми друг от друга законодательной, исполнительной и судебной ветвями, которые, как правило, формируются путем избрания должностных лиц непосредственно народом или его представителями. Принцип выборности наделенных властными полномочиями лиц означает, что правовое государство является по источнику происхождения власти демократическим.
Прямая персональная ответственность каждого гражданина перед законом и политическая ответственность властвующей элиты перед избирающим ее народом — это два механизма, определяющие функционирование правового государства. Оно может быть более или менее эффективным в зависимости от качества функционирования механизмов правовой и политической ответственности властвующей элиты перед обществом. Работа этих механизмов может быть нарушена коррупцией и бюрократическим произволом, которые часто превращают демократические и правовые формы лишь в декорации авторитарных режимов, обслуживающих интересы не народа, а властвующей верхушки. Предотвратить выхолащивание демократических и правовых форм может только постоянно действующий общественный контроль над властью, достигаемый посредством свободных СМИ и разнообразных общественных организаций, защищающих интересы граждан.
Деятельность политических и общественных организаций, защищающих права и свободы граждан, наполняет структуры и формы функционирования правового государства содержательным смыслом, позволяющим гармонизировать интересы разных социальных групп в общенародных требованиях, определяющих политику государства. В этом случае государство становится социальным. Именно тип социального демократического государства соответствует современному состоянию общества, развивающемуся на основе научно-технического прогресса и экономики знаний. В течение последних десятилетий он сформировался в большинстве развитых стран, обеспечивая высокий уровень жизни населения и быстрые темпы роста экономики.
Мы должны исходить из того, что современное Российское государство должно реально, а не на бумаге стать правовым, социальным и демократическим. Мы ставим перед собой задачу добиваться повышения его эффективности путем укрепления механизмов ответственности власти перед обществом, а также законодательного установления и реализации обязанностей государства обеспечивать защиту права
граждан на достойную жизнь и успешное развитие страны в общенародных интересах. Мы — за народовластие, понимаемое как подконтрольность власти обществу, подотчетность и жесткая ответственность всех наделенных властными функциями лиц.
1.2. Народовластие или авторитаризм?
Народовластие (по-гречески «демократия») формально провозглашено Основным законом Российской Федерации. Но реальных механизмов осуществления власти народа в нашей стране нет. Более того, народу приходится мириться с невыгодной большинству населения и губительной для России системой социально-экономических отношений. Эта система превращает 90% трудоспособных граждан России в бесправных наемных рабов, страну — в объект наживы, государство — в аппарат принуждения граждан к повиновению в интересах реально властвующей паразитической олигархии и коррумпированной бюрократии.
При формальном существовании демократических институтов важнейшие политические решения принимаются авторитарно. Одна из основных целей подобной политики — самовоспроизводство властвующей верхушки со всеми ее «кормушками» и привилегиями; интересы общества отступают на второй план. В сложившейся политической системе отсутствует главный механизм, связывающий государство и общество, — механизм подконтрольности и подотчетности носителей власти гражданам. И хотя по Конституции государство именуется «социальным» и должно гарантировать право каждого гражданина на «достойную жизнь и свободное развитие», реально за соблюдение законных прав, за поддержание достойного уровня и качества жизни российских граждан никто ответственности не несет.
Сторонники авторитарного государства уповают на добрую волю и нравственные качества правителя, ссылаясь на историческую традицию. Это понятно: других действенных механизмов сдерживания президентской власти при нынешней Конституции нет. Но ссылки на эффективность авторитарной власти в России XVIII—XIX столетий не убедительны. Если в царской России обладавший всей полнотой вла сти император отвечал за свои действия перед Богом, то в нынешней постсоветской России абсолютная власть порождает абсолютный произвол. Разграбление страны в ходе приватизации государственной собственности, чудовищная коррупция на всех уровнях, развращение общества и растление детей посредством пропаганды разврата и насилия на государственном телевидении, вывоз более полутриллиона долларов за рубеж при систематическом невыполнении установленных законом обязательств государства перед гражданами, силовое подавление и преследование политических оппонентов — далеко не полный перечень характерных черт системы, порожденной расстрелом Верховного Совета — высшего органа власти страны в 1993 году.
Узурпировав власть насильственным способом, правящая страной плутократия подчинила государство интересам собственного обогащения. На это были направлены решения о приватизации госимущества и городских земель, о распределении лицензий на использование природных ресурсов, о распродаже электростанций, о легализации вывоза капитала, о прекращении платежей за загрязнение окружающей среды и многие другие, обогатившие олигархов и лишившие российских граждан прав на общенародное имущество, бесплатное использование земли, надежное и общедоступное энергоснабжение и даже на чистый воздух. Государство же в результате такой политики стало банкротом, лишившись возможностей должного выполнения своих социальных обязательств.
Даже если мы понадеемся на чудо и вообразим во главе государства правителя глубоко нравственного, знающего и понимающего ответственность носителя неограниченной власти, то и тогда — вследствие объективной невозможности контролировать всех и вся из одного центра — реальная власть окажется заложницей безответственной бюрократии, действующей по принципу круговой поруки и принимающей решения в своих интересах от имени президента.
Авторитаризм в современных российских условиях — это не признак силы, а выражение слабости государства. Сильной компетентной и ответственной власти, работающей в интересах граждан, не нужно подавлять оппозицию. Напротив, сильной власти сейчас как никогда полезен открытый диалог с оп позицией, помогающий избежать ошибок и оптимизировать государственные решения.
В ходе ельцинских «реформ», породивших вседозволенность и разнузданность власть имущих, разрушивших связь между трудом и благосостоянием, убедивших активную часть общества в том, что кратчайший путь к богатству — это присвоение чужого, сформировалась криминальная властвующая элита. Произошло сращивание государства и организованной преступности; причастность к государственной власти стала рассматриваться как источник наживы; вошло в практику назначение должностных лиц за взятки. Облеченные властью лица стали действовать вопреки закону и нормам нравственности, предпочитая жить «по понятиям».
Оценивая нынешнюю политическую систему, мы должны понимать, что круговая порука коррумпированных чиновников, мошенников, разбогатевших на присвоении чужого олигархов, «авторитетов» преступного мира препятствует развитию России и подъему благосостояния народа. Властвующая элита закостенела в пороках, погрязла в воровстве и злоупотреблениях, она некомпетентна и аморальна. В своем сегодняшнем состоянии она не способна действовать в интересах страны, не в состоянии выполнить законодательно установленные обязательства государства перед гражданами, обеспечить каждому жителю России право на достойную жизнь.
Нынешняя так называемая «партия власти» убедительно зарекомендовала себя как преемница олигархического режима Ельцина. Она лишила народ права на бесплатное использование земли (которую теперь — согласно Земельному кодексу — необходимо приватизировать и платить налог на имущество с учетом рыночной стоимости или оформлять в аренду), на достойную оплату труда и защиту интересов наемных работников (эти интересы в Трудовом кодексе принесены в жертву алчности получателей прибавочной стоимости), на социальные гарантии и льготы (сброшенные федеральной властью на регионы, большинство из которых не имеет источников их финансирования), на доступ к лесам и берегам (переданным Лесным и Водным кодексами новым помещикам), на тепло и электроэнергию (которые теперь можно произвольно отключать за неуплату) и даже на чистый воздух, который теперь можно безгранично загрязнять, не обременяя себя платежа
ми за нанесение экологического ущерба (после фактической отмены платежей за загрязнение окружающей среды). Зато олигархи получили право беспрепятственно и без ограничений вывозить из России капиталы в любых формах и объемах, по-прежнему присваивая себе сверхприбыли от использования принадлежащих государству природных ресурсов и недоплачивая работникам.
Сразу же после своей победы на последних парламентских выборах «Единая Россия» отказалась от выполнения значительной части социальных обязательств перед населением и приступила к демонтажу жизненно важных для граждан социальных гарантий на жилье, современное образование и охрану здоровья. Проводимая ею реформа социальной сферы сводится к коммерциализации образования, здравоохранения, культуры, коммунального хозяйства. Гражданам предлагается самим оплачивать услуги этих отраслей. Одновременно вопреки Конституции страны, предусматривающей достойное вознаграждение за труд, фактически отменяется государственное регулирование заработной платы; игнорируется фундаментальный для социального государства принцип соответствия прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Фактически это означает правовое закрепление нынешнего недопустимо низкого уровня заработной платы, многократно заниженного по сравнению с мировыми стандартами и вкладом труда в создание национального дохода. Это означает также замораживание пенсий, привязанных к фонду оплаты труда.
Происходящая в стране антисоциальная реформа, лишающая заслуженных социальных гарантий и льгот десятков миллионов человек, демонтирующая важнейшие социальные функции и обязательства государства, по сути, означает антиконституционный переворот, грубо нарушающий положения Основного закона о социальном государстве, о недопустимости дискриминации граждан и принятия законодательных актов, ухудшающих условия жизни народа. Олигархо-бюрократическая власть не хочет обременять себя заботой о выполнении государственных обязательств и соблюдением прав граждан. Наше государство фактически превращено из социального и демократического в полицейско-бюрократическое.
1.3. От авторитаризма к демократии, от произвола к праву, от безответственности власти к социальному государству
Мы не являемся сторонниками насилия и уверены в необходимости соблюдения закона. Преступными средствами нельзя достичь праведной цели. Мы хотели бы видеть наше государственное устройство соответствующим духу христианства и других религий, традиционно определяющих духовные ориентиры нашего народа. Правителям надлежит использовать данную им власть для ограничения зла и поддержки добра, в чем и видится нравственный смысл существования государства. Устроение жизни народа на началах справедливости, забота о материальном и духовном благосостоянии общества — один из принципов социальной доктрины Русской православной церкви.
Мы исходим из конституционного определения нашего государства как социального и демократического, выступаем за наполнение этих формулировок реальным содержанием. Поэтому мы отвергаем всякие попытки узурпации власти, установления диктатуры, любые авторитарные методы управления. Мы решительно выступаем против навязывания обществу чуждой его интересам политики. Мы основываемся на традиционных для России идеалах и общепринятых нормах нравственности — и поэтому считаем недопустимой государственную поддержку действий, ведущих к ограничению прав и свобод граждан, деградации личности, к установлению всеобъемлющего контроля над жизнью человека, над его убеждениями и отношениями с другими людьми. Иными словами, мы считаем своим долгом противодействовать утверждению авторитаризма и дальнейшему перерождению нашего государства из правового, социального и демократического в полицейское, олигархическое и бюрократическое.
При нынешнем состоянии пораженного коррупцией государства и развращенного вседозволенностью общества нет другого пути эффективного устройства политической системы, кроме как на основе принципа жесткой ответственности властей предержащих за проводимую ими политику и принимаемые решения. В первую очередь необходима политическая ответственность исполнительной власти за уровень бла госостояния и качество жизни населения. Для этого следует принять федеральный и региональные законы, предусматривающие создание механизма общественного выбора целей социально-экономического развития страны и объективной оценки показателей уровня жизни, а также процедуру отставки федерального правительства и администраций субъектов Федерации в случае снижения уровня жизни соответственно в стране или регионе. Необходимо также введение персональной ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение законов, привлечение чиновников к административной или уголовной ответственности по фактам нарушения норм действующего законодательства.
Для преодоления коррупции, некомпетентности и безответственности исполнительной власти необходимы также парламентский контроль и расширение полномочий Государственной думы, касающихся утверждения правительства и назначения министров. Необходимо пресечь доминирующую сегодня практику назначения должностных лиц по принципу личной преданности начальству. Чем выше пост, тем больше требований следует предъявлять к претендующему на него человеку. Все министры и руководители федеральных ведомств должны назначаться только после всестороннего обсуждения их кандидатур в Государственной думе и с ее согласия. Дума не должна бояться роспуска в случае неутверждения кандидатуры премьер-министра или вотума недоверия правительству. Президент же должен нести ответственность за результаты своей деятельности, что предполагает введение разумной процедуры его отставки в случаях необоснованного превышения полномочий, злоупотреблений властью или участия в преступлении.
Должна быть введена и политическая ответственность депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации перед делегировавшими их во власть избирателями. Для этого каждому баллотирующемуся на выборную должность кандидату следует официально представлять свою программу и обязательства перед избирателями. За их нарушение должна быть установлена ответственность, для чего необходимо ввести процедуры отзыва депутатов избирателями, а членов Со-
вета Федерации — делегировавшими их региональными ор ганами власти.
Ключевой вопрос функционирования правового государства — эффективность судебной системы. Нынешняя ее организация по принципу круговой поруки, административное назначение судей порождают произвол, «телефонное право», коррупцию и безответственность. Нет ничего обнадеживающего в том, что «суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Мы уверены: нужны изменения в порядке формирования судебных органов и в способах их функционирования. При всех недостатках механизма выборности судей населением он лучше нынешней системы. Судей целесообразно избирать на неограниченный срок с периодическим подтверждением полномочий (при наличии оснований для отзыва) непосредственно населением или его выборными представителями.
Наконец, «четвертая власть» — средства массовой информации — не может оставаться в нынешнем состоянии, которое характеризуется зависимостью от административной цензуры, коррумпированностью и вседозволенностью. Государственные телеканалы должны быть поставлены под общественный контроль и управляться советами директоров, избираемыми соответствующими представительными органами власти. Главное требование к ним — объективное предоставление информации и соблюдение общепринятых норм нравственности. При теле- и радиокомпаниях — независимо от форм собственности — должны действовать наблюдательные советы, избираемые представительными органами власти из авторитетных деятелей культуры, представителей религиозных и общественных организаций — для того, чтобы обеспечить соответствие содержания транслируемых передач нормам нравственности и требованиям действующего законодательства. Необходимо также ужесточение ответственности руководителей СМИ за распространение клеветнической информации, злонамеренную дискредитацию и оскорбление граждан, введение их в заблуждение, другие злоупотребления влиянием на общественное мнение.
Мы разделяем позицию Церкви, выступающей против распространения убеждений и действий, ведущих к разрушению личной, семейной или общественной нравственности,
оскорбляющих религиозные чувства, наносящих ущерб куль турно-духовной самобытности народа.
Важнейший вопрос оздоровления государства — урегулирование его взаимоотношений с Церковью. Вся русская культура, наше национальное самосознание, понимание места и миссии нашей страны в мире неразрывно связаны с православием. Другие традиционные для России конфессии также внесли немалый вклад в нашу отечественную культуру и сегодня продолжают вместе с Русской православной церковью направлять духовную жизнь верующих, доля которых в численности российского населения непрерывно растет. Поэтому не должно быть никакого противостояния государства и Церкви. По выражению И.А. Ильина, «Церковь и государство служат единой высшей цели: делу Божьему на земле; но — разными способами и средствами. Отсюда разделение сфер и органическое согласование целей и усилий».
При сохранении принципа отделения Церкви от государства последнее должно признать смыслообразующую роль Церкви в духовной жизни нашего общества и необходимость восстановления незаконно нарушенных в свое время прав религиозных организаций. Деятельность Церкви по оказанию духовной поддержки верующим не должна ограничиваться государством и, тем более, встречать с его стороны препятствия. Для этого взаимодействие Церкви и государства должно основываться на договорно-правовых отношениях и не зависеть от бюрократического произвола. Мы поддерживаем положение социальной доктрины РПЦ, согласно которому в осуществлении своих социальных, благотворительных, образовательных и других общественно значимых программ Церковь может рассчитывать на помощь и содействие государства. Права Церкви и обязанности государства по созданию благоприятных условий для деятельности Церкви должны быть сформулированы в соответствующем федеральном законе, на основе которого религиозные организации имели бы доступ к государственным информационным ресурсам и могли бы вести работу в школах, больницах, армейских частях — везде, где людям необходима духовная поддержка и помощь.
В разумной политической системе глава государства должен быть не самодержавным диктатором, а дирижером, следящим за тем, чтобы все ветви власти работали в гармоничной симфонии совместной деятельности, формируя оптимальный для граждан и общества порядок. Иными словами, его основная функция — контроль над соблюдением законодательства всеми ветвями власти и обеспечение соответствия проводимой государством политики общенациональным интересам.
Охарактеризованные выше принципиальные требования к государственно-политическому устройству страны вытекают из понимания основной задачи власти: служить обществу. Мы убеждены, что осуществление этих требований будет способствовать повышению эффективности и ответственности власти, и предлагаем всем ответственным субъектам политической деятельности поддержать сформулированные в программе идеи — во имя общенациональных интересов.
. ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОй СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЭКОНОмИЧЕСКОГО РОСТА
Ответственная государственная власть ориентируется на повышение уровня и качества жизни народа — это главный критерий ее эффективности. Для этого она должна быть не только честной и ответственной, но и компетентной, действуя в общенациональных интересах на основании четкого понимания закономерностей современного социально-экономического развития, положения и возможностей страны.
Российская экономика, российское общество уже длительное время находятся в кризисном состоянии. На фоне глобализации экономических и социальных взаимосвязей, обостряющейся конкуренции на мировом рынке, где доминирующее положение занимают транснациональные корпорации, целые отрасли отечественного народного хозяйства теряют жизнеспособность. За исключением сырьевых товаров, энергоносителей и военной техники, российским производителям почти нечего предложить на мировом рынке. Внутренний рынок заполнен импортным ширпотребом. Несмотря на благополучные макроэкономические показатели, большая часть отраслей, в особенности высокотехнологический сектор, продолжает деградировать, все заметнее отставая от мирового уровня.
В основе современного социально-экономического развития лежит создание и освоение новых технологий; научно-технический прогресс обеспечивает более 90% экономического роста в развитых странах. Те, кто умеет создавать и осваивать новые технологии, получают сверхприбыли, которые отсталые страны оплачивают недооценкой труда своих граждан и поставками невоспроизводимых природных ресурсов. Неэквивалентный обмен усугубляется устойчивым оттоком капитала и умов из менее развитых стран в более развитые. Нарастающее технологическое отставание России создает критическую угрозу национальной безопасности, подрывая основу современного экономического роста. Деградация наукоемкого сектора не может быть компенсирована наращиванием экспорта сырья. Разница между инновационным путем развития на основе экономики знаний и экстенсивным наращиванием добычи сырьевых товаров — это разница между сверхзвуковым лайнером и старенькой кибиткой.
Пока российская экономика не утратила конкурентных преимуществ в ряде перспективных направлений научно-технического прогресса и наше технологическое отставание не стало необратимым, мы еще имеем возможность выбирать варианты будущего развития страны. Существуют два пути:
- безотлагательная модернизация экономики на основе нового технологического уклада, активизации научно-производственного, интеллектуального и ресурсного потенциала страны с соблюдением принципов справедливости в целях подъема благосостояния граждан России;
- сохранение сложившегося в годы разграбления страны чудовищного неравенства и несправедливости в распределении национального дохода, дальнейшая экономическая и политическая колонизация страны, ее превращение в сырьевой придаток успешно развивающихся экономик Запада и Востока — с неизбежным обнищанием и вымиранием большей части населения, фактической утратой национального суверенитета и духовной самоидентичности.
Наш выбор — первый путь, путь развития и справедливости, путь достоинства и веры в свой народ.
Мы понимаем, что, выбирая модернизацию, социальную справедливость и экономический рост, нельзя полагаться на чью-то помощь. В возрождении России жизненно заинтересованы только граждане России. Несмотря на колоссальные потери и трудности, у нас есть все возможности для развития с опорой на собственные силы, на внутренние ресурсы. Россия сохраняет многие конкурентные преимущества, которые при грамотной политике позволяют обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста, а в обозримой перспективе достичь уровня мировых лидеров по качеству жизни.
Важнейшие из упомянутых конкурентных преимуществ — это:
— образованные и квалифицированные кадры, способные к высокопроизводительному труду;
— мощный научно-промышленный потенциал, передовой производственно-технологический уровень развития многих перспективных отраслей;
— богатейший природно-ресурсный потенциал;
— емкий внутренний рынок, огромная территория и уникальное географическое положение;
— колоссальный исторический опыт выживания и развития страны в самых сложных условиях, включающий разнообразные модели управления народным хозяйством и мобилизацией ресурсов в кризисных ситуациях;
— ядерно-оружейная мощь и авторитет в мире, позволяющие России проводить самостоятельную политику исходя из национальных интересов.
Имеющийся у нас потенциал позволяет в короткие сроки удвоить объем производства и уровень оплаты труда, утроить объемы инвестиций, многократно повысить уровень инновационной активности — при проведении грамотной политики экономического роста, опирающейся на использование наших конкурентных преимуществ и закономерностей современного социально-экономического развития. Вместе с тем производственные мощности, созданные еще в советское время, уже изношены более чем наполовину. По величине национального богатства на душу населения Россия остается самой обеспеченной страной мира. Но среднедушевой объем производства у нас на порядок ниже уровня передовых стран. Причина — разоряющая страну крайне неэффективная система управления и мешающая ее развитию коррумпированная и невежественная власть. В отсутствие эффективной политики государства тенденции деградации приобретают необратимый характер.
У нас осталось мало времени, чтобы выйти из тупика.
Определяя ориентиры развития страны, необходимо видеть траектории глобального экономического роста. За экономической депрессией в ведущих странах скрывается глубокая структурная перестройка мирового хозяйства, которое находится в фазе перехода к новому технологическому укладу. Для ускорения этого процесса и минимизации негативных проявлений структурного кризиса развитые страны проводят целенаправленную государственную политику стимулирования инновационной и инвестиционной активности. Они всемерно поддерживают освоение передовых технологий, организуя финансирование и кредитование перспективных направлений экономического роста. Эффективно работающие предприятия имеют доступ к фактически бесплатным кредитам. Бюджеты развитых стран стали дефицитными, потому что власть стимулирует внедрение новой техники, поощряют рост расходов на закупку новейших технологий, помогают своим товаропроизводителям освоить преимущества нового технологического уклада. Государственные институты развитых стран наращивают расходы на разработку новейших технологий, стимулируя внедрение новой техники, применяют различные инструменты экономической политики, включая использование банков развития, целевых программ, долгосрочных кредитов, государственных закупок.
Главный вопрос сегодня — успеем ли мы перевести страну в режим модернизации и быстрого экономического роста на основе нового технологического уклада до завершения структурной перестройки мирового хозяйства. Если нам этого сделать не удастся, Россия окажется на периферии мировой экономики, лишится возможностей для самостоятельного развития. Избежать такого сценария можно, опираясь на творческий потенциал, созидательную инициативу и знания наших граждан, создавая для их практического приложения все необходимые условия. Именно в этом мы видим регулирующую роль государства. Последнее должно быть очищено от бюрократических извращений и ориентировано на поддержку предпринимательской инициативы граждан и организаций, их общественно полезной деятельности. Обеспечивая
доступ к новым знаниям, выделяя льготные кредиты, регулируя доходы и спрос, стимулируя инновационную активность, государство может содействовать повышению конкурентоспособности и росту отечественного производства.
2.1. Основные цели
Экономический рост необходим не ради темпов, структурных сдвигов или удовлетворения политических амбиций. Рост нужен для улучшения жизни граждан нашей страны. Объективные показатели уровня и качества жизни населения должны стать главными критериями оценки эффективности экономической политики государства. В этом смысл экономики как системы жизнеобеспечения общества. Благосостояние, справедливая оплата труда, возможность получить образование и медицинское обслуживание, реализовать творческий потенциал — это необходимые условия современного экономического роста.
Вопреки лукавым рассуждениям «в пользу богатых» — о необходимости стимулирования экономического роста путем снижения социальных расходов и отказа государства от ряда взятых им на себя обязательств, — обеспечение социальной справедливости отнюдь не препятствует росту экономики. Наоборот, такой рост немыслим без социальных гарантий, достойной оплаты труда и справедливого распределения доходов, без социального партнерства.
Наращивание социальных расходов — это инвестиции в развитие главной производительной силы современного экономического развития — человека. Поэтому следует стремиться не только к росту производства, но и к опережающему повышению уровня и качества жизни. Ее интегральным показателем является сегодня продолжительность жизни, которая, при правильной социально-экономической политике, может быть увеличена не менее чем на 5 лет к 2010 г. Очевидно, что следование этой цели повлечет за собой изменение приоритетов государственной политики. Необходимы преодоление массовой бедности (на основе сокращения безработицы и повышения оплаты труда), кардинальное увеличение финансирования здравоохранения и образования, реальная забота о детях, стариках и инвалидах, продуманная экологическая политика, широкомасштабная борьба с преступностью, алкоголизацией и наркотизацией общества, профилактика травматизма.
В основе современного экономического роста лежит творческая инициатива, развитие знаний, научно-технический прогресс, что придает инвестициям в человеческий потенциал ключевое значение. Кардинальное увеличение социальных расходов, повышение заработной платы, пособий, расходов на науку, здравоохранение и образование послужит мощным стимулом развития экономики, роста занятости и производительности труда.
Для этого требуется не отменять, как это делает нынешняя власть, а исполнять законодательно установленные нормативы бюджетных расходов на основные социальные нужды и сделать социальную составляющую исходным направлением проектирования государственного бюджета. В процессе бюджетного планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны следует использовать широкий круг социальных индикаторов, включая уровни среднедушевого потребления продовольствия, медикаментов, бытовых, коммунальных и транспортных услуг и других составляющих потребительской корзины современного человека. Необходимо также законодательное установление минимальных социальных стандартов, гарантируемых государством каждому российскому гражданину.
Основными целевыми ориентирами в политике социального государства на обозримую перспективу должны стать:
— увеличение средней продолжительности жизни российских граждан до уровня развитых стран — не менее чем на 10 лет к 2015 г.;
— приближение к 2015 г. среднедушевых доходов населения к уровню, существующему в развитых странах (это означает необходимость их утроения — за счет экономического роста с опережающим повышением оплаты труда, доля которой в структуре распределения национального дохода должна составлять не менее 70% по сравнению с нынешними 40%); выход России на уровень Европейского союза по индексу развития человеческого потенциала;
— преодоление вынужденной безработицы (в особенности среди молодежи) в результате опережающего роста производства товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости; кредитно-налоговое стимулирование создания новых рабочих мест; развитие высшего и среднего специального образования, развертывание системы повышения квалификации, переквалификации и трудоустройства безработных; организация общественных работ;
— ликвидация бедности: соблюдение законодательно утвержденных минимальных социальных стандартов потребления базовых продуктов питания, жилищных условий и энергоснабжения, бесплатной медицинской помощи; обеспечение нуждающихся за счет федерального бюджета по ежегодно устанавливаемым нормативам, а также принятие программы чрезвычайных мер в «зонах социального бедствия», включая бесплатное нормированное распределение продуктов питания и предметов первой необходимости среди детей, стариков, инвалидов, других нуждающихся групп населения;
— реализация мер полноценной поддержки семьи, материнства и детства, включающих доведение размера пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума, восстановление и развитие сети детских образовательных, творческих и спортивных организаций, защиту семейных ценностей и прекращение пропаганды насилия и разврата в средствах массовой информации, защиту женщин от дискриминации;
— восстановление на законодательном уровне обязательства государства в социальной сфере и соблюдение социальных гарантий, включая ранее действовавшие нормы законов, предусматривавшие конкретные нормативы финансирования нуждающихся групп населения и направлений социальной политики;
— восстановление сбережений населения, обесценившихся по вине государства в Сбербанке; включение обязательств государства, предусмотренных Федеральным законом «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», в состав внутреннего долга и реализация программы мер по его обслуживанию и погашению на основе предоставления населению в зачет долга товаров и услуг отечественного производства;
— преодоление расслоения общества по уровню благосостояния, освобождение от налогообложения доходов ниже двукратной величины прожиточного минимума на члена семьи, восстановление прогрессивной шкалы налогообложения доходов, превышающих эту величину более чем в пять раз;
— восстановление права граждан на отапливаемое и электрифицированное жилье со всеми удобствами; сохранение прав на фактически занимаемое жилье без уплаты налога на имущество с приватизированных квартир и арендной платы за использование государственных квартир, предоставленных до 1992 г.; развертывание системы льготного ипотечного кредитования жилищного строительства с предоставлением кредита на срок не менее 10 лет с нулевой реальной процентной ставкой; восстановление программ массового жилищного строительства для нуждающихся семей с бесплатным предоставлением квартир в бессрочную аренду; отмена законодательных норм, предусматривающих принудительное выселение людей из квартир за неуплату коммунальных платежей; введение автоматической системы предоставления адресных дотаций на оплату коммунальных услуг — исходя из того, что затраты на эти цели не должны превышать 10% совокупного дохода членов семьи;
— предоставление гражданам гарантированного доступа к глобальным информационным ресурсам и телекоммуникационным средствам за счет опережающего развития современной информационной инфраструктуры (с поддержанием тарифов на услуги связи для населения на уровне себестоимости при сохранении за потребителем права выбирать формы их оплаты), а также предоставление льгот в информационной сфере организациям образования, здравоохранения и культуры;
— поддержание ежегодного прироста ВВП на уровне 10% — на основе повышения конкурентоспособности производства товаров и услуг, стимулирования инновационной активности и НТП, формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.
2.2. Государственная защита трудовых доходов
2.2.1. Справедливая оплата труда
Большинство граждан России получают крайне низкую заработную плату, которая не соответствует трудовому вкладу и не обеспечивает нормального жизненного уровня. Доля оплаты труда в структуре использования национального дохода вдвое ниже, чем доля трудового вклада в создание этого дохода. Затраты на заработную плату в стоимости единицы продукции в России в 4 раза меньше, чем в развитых странах. Эксплуатация труда — один из источников сверхприбылей властвующей олигархии. Такая ситуация препятствует полноценному воспроизводству человеческого потенциала, росту организованных сбережений граждан, сужает объем конечного спроса и порождает крайне отрицательные социальные и экономические последствия.
Права на достойно оплачиваемый труд и на занятость должны быть законодательно закреплены — как одна из важнейших социальных гарантий современного государства. При этом нижний предел оплаты труда должен быть законодательно установлен не ниже прожиточного минимума, рассчитываемого по научно обоснованной потребительской корзине. Оплата труда должна дифференцироваться в зависимости от условий и режима работы, а также сложности труда, наличия специального и высшего образования. Установление зарплаты ниже законодательно определенного минимума должно караться значительными штрафами, изымаемыми в пользу профсоюзов, а также обязанностью погасить работнику разницу между минимальной и реально выплаченной зарплатой с начисленными процентами по ставке рефинансирования Центрального банка.
Одна из функций государства — не допускать вынужденной застойной безработицы. Необходимо законодательно установить максимально допустимый уровень вынужденной безработицы — не более 1% экономически активного населения. При его превышении должны включаться механизмы государственного стимулирования занятости, в том числе: расширение кредитования производственной сферы и снижение процентных ставок; развертывание общественных работ; программы стимулирования малого бизнеса и жилищного строительства; увеличение ассигнований на переподготовку и повышение квалификации кадров; налоговые льготы предприятиям, создающим новые рабочие места; ограничение трудовой иммиграции.
Минимальная заработная плата и минимальная пенсия должны быть выше прожиточного минимума и полностью
индексироваться каждый раз при повышении стоимости жизни более чем на 5%. Необходимо прекратить политику обесценивания текущих доходов и сбережений граждан, которые несут основное бремя инфляции.
При приеме на работу иногородних и иностранных граждан величина заработной платы должна обеспечивать аренду жилого помещения в пределах санитарных норм по рыночным ценам. Контроль над выполнением данного требования в отношении иностранцев и граждан, не имеющих жилья в данной местности, следует возложить на иммиграционные и налоговые органы. Прием на работу работников без соблюдения требований трудового законодательства, без официального оформления трудовых отношений или без уплаты налогов (включая социальный) нужно преследовать в уголовном порядке, предоставив при этом профсоюзам право требовать компенсации ущерба, нанесенного их членам недобросовестными работодателями.
Государство обязано гарантировать своевременность выплаты заработной платы. Нужно принять законодательные нормы, по которым любые задержки выплаты зарплаты наказываются штрафами, накладываемыми на виновных в этом должностных лиц и организаций. Следует также предусмотреть индексацию задержанных средств на момент выплаты по ставке рефинансирования Центробанка.
Взаимоотношения между работающими по найму гражданами и работодателями должны строиться на началах социального партнерства. Это означает определение условий и оплаты труда путем переговоров на основе правовых норм, защищающих интересы наемных работников. Государство призвано участвовать в этих переговорах в качестве арбитра, защищать законные интересы трудящихся. Важным механизмом социального партнерства должно стать соучастие трудовых коллективов в управлении предприятиями. Нужно предусмотреть, в частности, делегирование представителей наемных работников в советы директоров или аналогичные органы управления предприятиями (вне зависимости от формы собственности). Это важно не только для эффективной защиты прав наемных работников, но и для повышения производительности и качества труда, мотивированного хозяйским отношением к собственности предприятия.
2.2.2. Защита пенсионных сбережений и прав граждан на обеспеченную старость
Сложившаяся в России пенсионная система далека от совершенства. С одной стороны, она ложится тяжелым бременем на работающих граждан, на зарплату которых начисляется социальный налог, служащий основным источником финансирования пенсий. С другой стороны, права пенсионеров постоянно нарушаются государством, которое произвольно манипулирует с порядком исчисления трудового стажа, систематически обесценивая и нивелируя пенсии. При нынешней демографической ситуации, характеризующейся устойчивой тенденцией старения населения, пенсионная система становится все менее эффективной и ненадежной. Вместе с тем затеянная правительством пенсионная реформа зашла в тупик вследствие недостаточности доходной базы, определяемой фондом оплаты труда. Переход к накопительной системе формирования пенсионных сбережений возможен только на основе кардинального повышения уровня оплаты труда работающего населения.
Двукратное повышение оплаты труда в соответствии с изложенными выше программными положениями позволит осуществить переход к эффективной пенсионной системе с надежной защитой сбережений и прав граждан на обеспеченную старость. При этом не должно произойти снижения реальных доходов пенсионеров. Следует восстановить надбавки за особые условия работы, учитывать при исчислении трудового стажа нестраховые периоды (время учебы, декретные отпуска и пр.). Не должны пострадать и работающие граждане, на зарплату которых в течение переходного периода ложится двойная нагрузка по финансированию текущих пенсионных обязательств государства и накоплению собственных пенсионных сбережений. Повышение эффективности использования таких сбережений требует качественных изменений в управлении государственным пенсионным фондом, а также создания надежной системы государственного страхования сбережений в частных пенсионных фондах. Иными словами, речь идет о существенной корректировке пенсионной реформы, ее увязке с другими направлениями социально-экономической политики государства.
Для проведения пенсионной реформы необходимо создание достаточно емкого государственного финансового резерва, за счет которого можно было бы покрывать дисбалансы переходного процесса. При формировании такого резерва могут быть использованы государственные ценные бумаги; принадлежащие государству акции и облигации коммерческих организаций; права государства на получение сверхприбыли от эксплуатации принадлежащих ему природных ресурсов; гарантии федерального бюджета. Средства этого фонда должны использоваться на покрытие дефицита государственного пенсионного фонда, а также на финансирование государственных пенсий и пособий нетрудоспособным гражданам.
Важным условием эффективного применения накопительного принципа организации пенсионных сбережений в пенсионных фондах является их инвестирование в развитие отечественной экономики. При этом нельзя допускать перетока пенсионных сбережений за рубеж, они должны вкладываться исключительно в ценные бумаги российских организаций. В противном случае переход к накопительному принципу приведет не к повышению, а к снижению эффективности российской финансовой системы, к сужению возможностей экономического роста и, в конечном счете, к сокращению трудовых доходов населения, а также пенсионных сбережений.
2.2.3. Восстановление и защита сбережений граждан
Народно-патриотическим силам удалось добиться решения Конституционного суда и принятия закона о восстановлении обесценившихся по вине государства сбережений граждан. Государство обязано восстановить дореформенные вклады населения по их покупательной способности на середину 1991 г. Однако до сих пор эти обязательства не учитываются в составе внутреннего государственного долга и фактически не признаются нынешней властью. Таким образом, государство не только нарушает права граждан на заработанные честным трудом сбережения, но и подрывает доверие населения к отечественной финансовой системе, провоцируя вывоз капитала.
Между тем основой национального инвестиционного потенциала являются именно сбережения населения, которые работают на развитие отечественной экономики только в том случае, если хранятся в отечественных банках в российской валюте. Только в том случае, если восстановится доверие населения к государству и к банкам, можно ожидать, что граждане переведут свои сбережения из долларов в рубли, отдадут их на хранение отечественным финансовым структурам, и эти деньги начнут наконец работать на экономический рост нашей страны. В результате возникнет возможность увеличить инвестиции в несколько раз.
Таким образом, задача восстановления сбережений является важнейшей составляющей программы экономического роста. Разработаны экономические и правовые механизмы, позволяющие восстановить сбережения по их реальной покупательной способности в середине 1991 г. и одновременно стимулировать рост отечественного производства и инвестиций, дать мощный импульс экономическому развитию. Эта задача может быть решена в течение пяти лет при условии, что восстановленные сбережения граждане смогут использовать исключительно на приобретение отечественных товаров и услуг, на инвестирование в жилищное строительство или в развитие производства.
Восстановление сбережений предусматривает также обслуживание долга путем начисления и выплаты по вкладам процентов, которые не должны быть ниже уровня инфляции. В первую очередь следует восстановить вклады лиц старших возрастных групп, а также вклады инвалидов и ветеранов.
Программа восстановления сбережений граждан будет способствовать расширенному воспроизводству, станет важным условием консолидации общества и социальной стабилизации, вернет доверие к власти.
Восстанавливая обесценившиеся по вине государства дореформенные сбережения, следует озаботиться защитой текущих сбережений, хранящихся в отечественных финансовых структурах. Еще одна задача — возврат вкладов, фактически похищенных у граждан организаторами финансовых пирамид, в результате злонамеренных банкротств и других финансовых афер. Для этого нужна эффективная система государственного гарантирования банковских вкладов граждан. Страхование вкладов не должно производиться за счет клиентов; главное бремя издержек по гарантированию вкладов должен взять на себя Центральный банк, в функции которого входит банковский надзор и лицензирование банковской деятельности. Опираясь на свои права, Центробанк обязан не допускать к управлению и работе со сбережениями граждан сомнительные структуры. Аналогичные меры необходимо использовать и для защиты сбережений, аккумулируемых инвестиционными фондами.
2.3. Развитие человеческого потенциала
Развитие человеческого потенциала и рост народонаселения были и остаются для России важнейшими целями социально-экономической политики и необходимым условием сохранения страны. Демографические прогнозы предупреждают нас о том, что население России к 2050 г. может сократиться на 40 миллионов человек, причем за счет опережающего вымирания русских, которые могут оказаться «национальным меньшинством» в родной стране. Для нейтрализации этой угрозы необходима активная комплексная социальная политика государства, направленная на устранение причин демографической катастрофы и создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала.
Основная причина нарастающих тенденций вырождения нации — резкое ухудшение благосостояния и деморализация большей части населения, вызванные развалом государства и хищнической политикой разграбления страны. С 1990-х годов в России наблюдается значительная абсолютная убыль населения, до миллиона человек в год. Резкое ухудшение благосостояния и стремительное разрушение привычной жизненной среды вызвали обвальную утрату у большинства граждан веры в перспективы и даже в смысл своей жизни. В результате резко снизились рождаемость, количество заключаемых браков, средняя продолжительность жизни, выросла смертность, в особенности среди мужчин трудоспособного возраста, количество разводов, социально обусловленных болезней и преступлений.
При сохранении сложившейся структуры распределения национального дохода только каждый третий рождающийся сегодня ребенок получит хорошее образование и преуспеет в
жизни. Две трети наших детей обрекаются нынешней политикой демонтажа социальной ответственности государства на жалкое существование. Очевидно, что до тех пор, пока такая политика будет продолжаться, доходы большинства трудоспособного населения России не позволят ни достойно жить, ни поддерживать нормальную способность к труду; следовательно, демографический кризис будет обостряться.
Для выхода из этого тупика требуется кардинальное изменение государственной политики. Она должна быть направлена на повышение уровня жизни народа исходя из того, что человеческая жизнь — самая главная ценность. Особое значение при этом имеют решения, затрагивающие интересы женщин, детей и молодежи, определяющие будущее нации.
2.3.1. Политика в отношении женщин
Современное общество не может быть здоровым и благополучным, если женщина играет второстепенную, подчиненную роль в общественной жизни, на производстве и в семье.
В целях защиты прав женщин и создания реальных возможностей для их осуществления государств должно:
— обеспечивать свободный доступ женщин к высшему и профессиональному образованию, повышению квалификации, участию в управлении;
— защищать права беременных женщин и женщин-матерей в трудовой деятельности, в сферах здравоохранения и образования, в жилищных и имущественных вопросах;
— защищать права родителей, обремененных семейными обязанностями, при приеме на работу, при установлении условий и режима труда, а также при увольнении;
— разрабатывать программы, направленные на преодоление фактической дискриминации женщин в трудовых отношениях;
— защищать общество от антикультуры, способствующей дискриминации и унижению женщин, провоцирующей жестокость и насилие, развращающей детей.
Политика защиты прав женщин должна носить комплексный и системный характер, охватывать весь спектр социально-экономических отношений как в государственной, так и частной сферах.
2.3.2. Поддержка семьи
Крепкая, дружная, благополучная семья — высшая ценность, необходимая предпосылка здорового общества и залог будущего нации. Семья дает ребенку и взрослому человеку ощущение защищенности, заботы, надежности, порождает и подпитывает чувства любви, привязанности, ответственности, обеспечивает связь поколений.
Такая семья — опора государства и основа общественной стабильности.
Наряду с указанными выше мерами по повышению оплаты труда и обеспечению социальных гарантий, наше понимание приоритетов государственной семейной политики включает в себя:
— обеспечение доступности для каждой семьи качественных услуг здравоохранения и образования, создание возможностей для приобщения к ценностям духовной культуры;
— обеспечение доступности благоустроенного жилья для каждой семьи, особенно для молодых семей; предоставление для этих целей долгосрочных беспроцентных кредитов на приобретение или строительство жилья, а также бесплатного муниципального жилья детям-сиротам и малоимущим семьям;
— ощутимая материальная и иная поддержка семей с одним кормильцем, одиноких матерей, вдов и вдовцов, воспитывающих несовершеннолетних детей;
— создание эффективной системы социальной реабилитации инвалидов, их интеграции в общество, дополнительная поддержка семей с детьми и инвалидами;
— увеличение единовременных пособий при рождении или усыновлении ребенка до уровня не ниже минимальных расходов на приобретение детского приданого (сейчас это не менее 10 тыс. рублей), а также выплата пособия по уходу за ребенком в размерах не менее прожиточного минимума, автоматически выделяемого за счет федерального бюджета;
— подготовка молодежи к браку и семейной жизни на основе традиционных российских духовных ценностей, введение преподавания в средней школе основ православной культуры;
— принятие федерального закона «Об основах государственной семейной политики», устанавливающего гарантии государственной поддержки семей с детьми на всей территории России — на основе минимальных социальных стандартов.
2.3.3. Политика в отношении детей
Обеспечение развития детей, защита их прав и свобод должны быть предметом каждодневной заботы органов власти и управления всех уровней.
Мы настаиваем на реализации следующих приоритетов государственной политики в этой сфере:
— обеспечение права каждого ребенка на семейное воспитание, профилактика социального сиротства посредством развития и совершенствования института усыновления, государственное субсидирование приемных детей, опекунских семей и семейных групп на уровне не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка;
— бесплатная медицинская помощь и лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет;
— приоритетное финансирование федеральных и региональных программ, направленных на охрану здоровья, обеспечение образования и развития детей, производство детского питания и лекарств для детей;
— обустройство всех беспризорных детей, безусловное выделение необходимых для этого средств;
— развитие сети доступных для всех семей детских дошкольных учреждений, спортивных школ и творческих студий, летних лагерей, обеспечение условий для нормального отдыха и досуга детей;
— профилактика детского алкоголизма, токсикомании, искоренение наркомании и детской преступности, жесткое пресечение эксплуатации несовершеннолетних и сексуальных преступлений против детей, резкое ужесточение уголовных наказаний за преступления, совершаемые против детей;
— эффективная государственная защита личных и имущественных прав детей, создание ювенальных судов, обеспечение эффективного прокурорского и общественного надзора за соблюдением прав и свобод детей.
2.3.4. Защита прав пожилых людей
Право на обеспеченную старость предполагается конституционной нормой, гарантирующей гражданам России достойную жизнь. Наш долг — обеспечить достойную жизнь старшему поколению, отстоявшему нашу страну в годы Великой Отечественной войны, восстановившему народное хозяйство, внесшему неоценимый вклад в развитие страны, в ее становление как великой державы.
До последнего времени в стране действовала система социальных гарантий, сформировавшаяся в основном в дореформенный период и дополненная в наиболее тяжелый период реформ в целях предотвращения физического вымирания нетрудоспособного населения. Далеко не все эти социальные гарантии были подкреплены соответствующим финансированием, но их наличие позволяло нуждающимся пожилым людям отстаивать свои права. Мы предлагали решать проблему нехватки средств на исполнение социальных обязательств государства путем увеличения доходов бюджета за счет принадлежащих государству, но используемых в частных интересах источников (прежде всего — природной ренты). Но нынешняя партия власти поступила иначе — ликвидировала большую часть социальных гарантий, отчасти заменив их незначительными денежными компенсациями или передав вопрос об их финансировании на усмотрение субъектов Федерации. Это антиконституционное ущемление прав граждан, подрывающее фундаментальные основы социального государства. Отмененные социальные гарантии и нормативы финансирования социальной сферы должны быть восстановлены. В первую очередь должны быть восстановлены:
— права ветеранов и инвалидов на льготное медицинское обслуживание и бесплатное обеспечение жизненно необходимыми лекарствами, а также льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг;
— права ветеранов на льготное транспортное обслуживание;
— все ранее установленные социальные льготы ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, узникам нацистских концлагерей, людям, пострадавшим при ликвидации Чернобыльской катастрофы, жертвам политических репрессий.
Особое значение для пожилых людей имеет пенсионное обеспечение, которое сегодня реформируется без учета обязательств, взятых на себя государством в период трудовой деятельности нынешних пенсионеров. Предложенная правительством пенсионная реформа не обеспечивает надежную защиту прав и интересов как нынешних, так и будущих российских пенсионеров. Очевидно отставание размеров пенсий от прожиточного минимума, особенно в северных территориях России, что снижает уровень жизни пенсионеров.
Не дожидаясь осуществления перечисленных выше мер, следует предпринять действия, необходимые для защиты прав пожилых людей в рамках действующей системы пенсионного обеспечения. Необходимы:
— существенное повышение пенсий в соответствии с ростом оплаты труда;
— отмена введенных постфактум ограничений при назначении пенсий и полный учет при определении размеров пенсий трудового стажа (с восстановлением нестраховых периодов: время учебы, декретные отпуска и отпуска по уходу за ребенком и пр.), а также существовавших ранее льгот;
— своевременная индексация пенсий, в том числе дополнительная — в случае опережающего роста тарифов на услуги социальной сферы с учетом динамики прожиточного минимума пожилых людей.
2.3.5. Миграционная политика
В России миграция населения всегда оказывала огромное влияние на демографическое и экономическое развитие как отдельных территорий и регионов, так и страны в целом.
Распад СССР значительно изменил картину миграций. Россия оказалась в сложном положении в связи с национальными конфликтами, обострившимися как за ее пределами, так и внутри страны. Результатом этого явилось появление сотен тысяч вынужденных переселенцев, беженцев и нелегальных иммигрантов. Россия оказалась не подготовленной к эффективному решению возникших проблем.
Необходимо помнить не только о праве граждан на свободный выбор места жительства, но и о праве граждан на сохранение социальных льгот и гарантий, а также языковой и культурной среды обитания. Поэтому нужно отказаться от заселения российской территории гражданами иностранных государств под предлогом «свободного доступа на рынок трудовых услуг». Незаконное проникновение и нахождение на территории России, как и содействие этим правонарушениям, должны наказываться длительным тюремным заключением.
В то же время следует сохранить возможности беспре пятственного получения российского гражданства соотечественниками, вынужденно оказавшимися за рубежом в силу развала СССР или по другим объективным причинам. В некоторых случаях полезно предоставлять вид на жительство работникам, обладающим дефицитными специальностями, — при условии неукоснительного соблюдения иммигрантами российского законодательства. Должна быть введена система контроля над соблюдением квот, регулирующих прием иммигрантов, привлекаемых на работу российскими организациями по согласованию со службами занятости.
Российские граждане и организации, приглашающие иностранцев на работу, на учебу или в гости, туристические агентства и рекрутинговые фирмы должны нести материальную ответственность за нарушение иммигрантами норм российского законодательства и оплачивать расходы на депортацию совершивших эти нарушения. Тогда наем на работу иностранца-нелегала станет не столь привлекательным для работодателей, как сейчас. Следует ввести строгую материальную ответственность за попрошайничество и самозахват мигрантами-нелегалами общественных и муниципальных объектов.
Особую проблему представляет собой массовый выезд граждан из районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Для сохранения населения в этих регионах необходимы восстановление северных льгот с учетом реальной стоимости потребительской корзины, сохранение и развитие социальной инфраструктуры, активизация производства и жилищного строительства. Целесообразно также введение льготного режима хозяйственной деятельности в северных районах, в том числе исключение из налогооблагаемой прибыли дополнительных расходов, определяемых климатическими условиями и географическим положением.
2.3.6. Здравоохранение
Здоровье и долголетие населения — важнейшая характеристика эффективности любой социально-экономической системы, один из главных ориентиров при определении государственной политики, критерий оценки деятельности государственной власти.
Следует на законодательном уровне конкретизировать конституционное право каждого гражданина России на защиту здоровья — независимо от уровня его личных доходов. Решение этой задачи требует развития системы медицинского обслуживания и здравоохранения, которая должна включать:
— государственные медицинские учреждения, бесплатно оказывающие населению качественную необходимую помощь;
— сеть организаций государственного медицинского страхования, обеспечивающую финансирование лечения за счет взносов работников и работодателей;
— негосударственные медицинские учреждения, функционирующие на рыночных условиях;
— учреждения санаторно-курортного обслуживания;
— систему надежного обеспечения населения доброкачественными лекарствами по справедливым ценам.
Нынешняя система здравоохранения не в состоянии в полной мере решить стоящие перед ней задачи. Ни пациенты, ни врачи не могут реализовать свои права вследствие массовых злоупотреблений в монопольно организованной системе медицинского страхования, из-за хронической недостаточности финансирования и коррупции в бюрократических структурах управления здравоохранением. Бесконечное реформирование системы здравоохранения повлекло за собой резкое снижение ее эффективности, отвлечение и без того недостаточных бюджетных ассигнований на финансирование коммерческих посредников. Фактически реформа здравоохранения зашла в тупик; адекватную нынешним условиям систему охраны здоровья и медицинского обслуживания населения нужно создавать заново.
Система обязательного медицинского страхования должна быть, во-первых, демонополизирована и организована на конкурентных началах. Страховщикам надлежит реально брать на себя риски полного финансирования расходов на лечение заболевших клиентов, а потребители должны иметь возможность свободного выбора страховых компаний, а также право вовсе отказываться от их услуг, заключая договор непосредственно с региональным фондом обязательного медицинского страхования. В последнем случае пациент прикрепляется к соответствующему государственному медицинскому учреждению, которое получает необходимые для его обслу живания средства напрямую, без посредничества коммерческих структур.
Во-вторых, нужно усилить влияние врачей на организацию системы здравоохранения, вдвое повысить уровень оплаты труда медицинских работников. Ситуация, в которой секретарша руководителя страховой компании получает более высокую зарплату, чем врач высшей квалификации, совершенно недопустима. Профессиональные ассоциации врачей, полномочные представлять их интересы, должны на равных участвовать в решении важнейших вопросов функционирования системы здравоохранения, включая вопросы финансирования и оплаты медицинских услуг страховыми компаниями.
В-третьих, необходимо как минимум вдвое повысить государственные ассигнования на здравоохранение, доведя долю расходов на эти цели в ВВП до мирового стандарта, а также зафиксировать права государства на все имущество принадлежащих ему медицинских учреждений — с целью недопущения их банкротства и приватизации.
В-четвертых, нужно развивать государственную систему профилактики наиболее опасных социально обусловленных болезней с целью прекращения широкого распространения алкоголизма, наркомании, СПИДа, туберкулеза, сифилиса, гепатита. Борьба с этими недугами предполагает развертывание системы профилактических и реабилитационных центров, значительное увеличение финансирования научных разработок в области диагностики и создания лекарственных препаратов, повышение оплаты труда медицинских и социальных работников, а также резкое ужесточение ответственности за распространение упомянутых болезней.
Необходимо восстановить систему всеобщей бесплатной вакцинации населения, бесплатной диспансеризации детей и подростков, а также совершеннолетних граждан. Следует также возродить сеть детских спортивных школ; занятия физкультурой и спортом должны вновь стать доступными всем желающим. Важное социальное и экономическое значение имеет организация массового санаторно-курортного обслуживания, для чего потребуются государственные субсидии и программы.
В-пятых, должны быть созданы экономические условия для наращивания негосударственных инвестиций в здравоохранение. Следует предусмотреть освобождение от налогов расходов граждан на медицинские услуги, льготное налогообложение медицинских учреждений.
Важнейшее направление охраны здоровья населения — обеспечение чистоты окружающей среды, высокого качества питьевой воды и продуктов питания. Необходим комплекс экономических и административных мер, обеспечивающих соблюдение экологических стандартов. Нужно ввести научно обоснованный механизм платежей и штрафов за загрязнение окружающей среды с целевым расходованием собираемых средств на экологические и природоохранные мероприятия.
Государство обязано гарантировать безопасность потребления всех продаваемых населению товаров и услуг, устанавливать стандарты качества и контролировать их соблюдение. За нарушения производители и импортеры должны нести имущественную и уголовную (в случае нанесения серьезного ущерба здоровью граждан) ответственность.
2.3.7. Система образования
Качество образования должно в полной мере отвечать не только сложившимся социально-экономическим условиям России, но и перспективным потребностям ее развития. Формирование постиндустриального информационного общества, расширение системы международных коммуникаций, обострение глобальной конкурентной борьбы на всех рынках предъявляют растущие требования к общей культуре и профессиональной компетентности, функциональной грамотности человека.
В образовательной системе за прошедшее десятилетие произошел ряд изменений. Монолит унифицированной советской школы был расколот введением права на вариативное образование. Появилась возможность выбора, зародились и встали на ноги авторские школы, окрепло движение учителей-новаторов, оформляются новые образовательные технологии. Однако все эти обнадеживающие явления коснулись не более чем 10% школ, в большинстве же отечественных учреждений среднего образования ситуация за прошедшее деся тилетие существенно ухудшилась. Резко снизилась материаль ная обеспеченность школы, усилились негативные тенденции в области содержания и технологий образования, обусловленные сохранением авторитарно-бюрократических методов, подавляющих в детях всякую самостоятельность и инициативность, с одной стороны, и выхолащиванием содержания обучения — с другой.
Образование, которое должно строиться на основе требований современности и прогнозов, на многие годы отстало от темпов изменения жизни в стране и в мире. Образовательная система до сих пор транслирует готовые обобщенные знания, не ориентирована на их творческое освоение, она формирует память, а не мыслительные способности. Школе навязывается бюрократический стиль управления, содержательный процесс обучения подменяется образовательными услугами по натаскиванию учеников на формальную сдачу единого государственного экзамена. Под давлением ангажированных экспертов и некомпетентных руководителей нам навязываются давно отжившие зарубежные методики массового обучения детей стандартным навыкам поведения в ущерб смысловому постижению знаний, характерному для отечественной образовательной школы.
В результате содержание и методика обучения оказываются неадекватными современным квалификационным требованиям. Для преодоления очевидных трудностей необходимо сделать многое, в частности — в сфере освоения информационных технологий, социально-правовых дисциплин, иностранных языков. Необходимо восстановить воспитательную функцию школы, без чего самые эффективные методики обучения во многом теряют свою эффективность.
Школа должна содействовать успешной социализации молодежи и ее адаптации на рынке труда. Для этого следует обеспечить освоение учащимися ключевых социальных и профессиональных умений и навыков, формирование гражданского сознания и поведения.
Обновление содержания общего образования — не только и не столько кабинетный процесс. Сотни российских школ уже накопили интереснейший опыт. Государству надлежит поддерживать те учебные заведения, в которых существу ют перспективные инновационные разработки, применяются передовые технологии, способствовать широкому распространению подобного опыта, организовывать переподготовку кадров.
Основным результатом обучения должна стать не только система знаний, умений и навыков сама по себе, но и набор сформулированных педагогами и одобренных органами образования компетенций в интеллектуальной, общественнополитической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Для достижения этого результата необходимо сделать многое:
- Усилить практическую ориентацию и творческий характер общего среднего образования, что предполагает оптимальное сочетание фундаментальных и практических знаний, развитие способностей учащихся самостоятельно добывать информацию, расширение различного рода практикумов, интерактивных форм и т.д.
- Совершенствовать технологии образования, расширив применение тех из них, которые формируют практические навыки анализа информации, самообразования, способствуют развитию инициативности и самостоятельности школьников.
- Обеспечить в старших классах школы возможность выбора образовательных программ, в частности — путем создания профильных классов.
- Ликвидировать отставание от мировой науки в стандартах и качестве преподавания социальных наук. Дать всем выпускникам средней школы знания и базовые навыки, обеспечивающие активную социальную адаптацию (экономика, право, основы политической системы, менеджмент, социология и т.п.).
- Осуществлять базовую подготовку учащихся средней школы в области применения информационных и коммуникационных технологий.
- Обеспечить освоение всеми выпускниками полной средней школы как минимум одного иностранного языка, не забывая при этом о качестве преподавания родного языка.
- Усилить дифференциацию образовательного процесса, в том числе путем создания доступных индивидуализирован
ных программ и графиков обучения с учетом особенностей и способностей учащихся.
- Усилить социально-гуманитарную направленность общего среднего образования, обеспечить расширение и конкретизацию его социального и культурного контекста на основе традиционных российских духовных ценностей.
- Создать механизмы систематического обновления содержания общего образования.
- Сделать систему образования открытой для ее основных «заказчиков» — родителей школьников.
Основой социальных гарантий в области образования является принцип равных стартовых возможностей и равного доступа российских граждан к образовательным услугам.
Должно быть сохранено всеобщее бесплатное среднее и среднее специальное образование. Необходимо предоставить всем желающим право на бесплатную учебу в государственных вузах с обязательством работать по специальности в России после завершения учебы, предусмотрев обязанность выпускника вуза в случае эмиграции компенсировать затраты на его подготовку с уплатой накопленных процентов по рыночным ставкам. Российские налогоплательщики не должны финансировать утечку мозгов за рубеж и пребывание в вузах с целью уклонения от службы в армии.
Необходимо повысить техническую оснащенность и методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Исходя из потребностей воспроизводства отечественного образовательного потенциала и в соответствии с общепринятыми в мире стандартами, необходимо как минимум в полтора раза увеличить государственные расходы на образование и профессиональное обучение молодежи, осуществить крупномасштабную программу восстановления и развития российского образования.
Все перечисленные выше направления социальной политики государства могут быть реализованы только на основе надежной и быстро растущей экономической базы, определяющей финансовые возможности развития здравоохранения, образования, науки и культуры.
2.4. Стратегия и источники экономического роста 2.4.1. Стратегические установки
Отвечающая жизненно важным интересам России стратегия экономического роста призвана обеспечить переход в кратчайшие исторические сроки к новому технологическому укладу, основа которого — не хищническая эксплуатация невозобновляемых сырьевых ресурсов, а знания, научно-технический прогресс, развитие человеческого потенциала страны. Только экономический рост на современной научно-технической основе влечет расширение занятости населения в различных сферах производительного высокооплачиваемого труда и повышение благосостояния народа.
Гармонично устроенные экономические модели развитых государств, учитывающие национальные особенности и конкурентные преимущества, сочетающие планирование развития и механизмы рыночной конкуренции, обеспечивают устойчивый рост производства и общественного благосостояния. Наша программа базируется на обобщении и творческом освоении мирового опыта успешной политики экономического роста, а также на четком понимании закономерностей развития современного общества и конкурентных преимуществ российского народного хозяйства.
Экономическая стратегия должна быть нацелена на решение основной задачи демократического государства — на повышение благосостояния граждан. Не сам по себе рост ВВП и даже не повышение среднедушевого дохода, а обеспечение достойного уровня жизни всем законопослушным гражданам — вот главная задача правительства и законодателя.
Имеющийся в стране научно-производственный потенциал позволяет добиться ежегодного прироста ВВП не менее чем на 10%, если государство будет проводить целенаправленную экономическую политику, предусматривающую структурную перестройку и модернизацию народного хозяйства на современной технологической основе, многократное повышение инвестиционной и инновационной активности.
Это возможно только при условии прироста инвестиций на уровне не ниже 20% в год. В противном случае выбытие изношенных производственных мощностей будет существенно превышать ввод новых и продолжится разрушение произ водственного потенциала страны. Объективные возможности роста капиталовложений значительны — объем сбережений, формирующихся в российской экономике, вдвое превышает объем инвестиций в развитие производства. Если пресечь практику нелегального вывоза капитала и провести оздоровление денежно-финансовой сферы, можно обеспечить не менее чем трехкратное увеличение инвестиций в развитие производства.
Для решения задачи кардинального повышения инвестиционной и инновационной активности необходима система мер, включающая использование государственных гарантий для кредитования проектов освоения перспективных технологий, развертывание системы банков развития; реализацию целевых программ структурной перестройки экономики; переориентацию денежной политики на кредитование производственной сферы. При этом для удержания инфляции в заданных пределах необходимо повысить эффективность контроля над ценами на энергоносители, товары и услуги естественных монополий, сдерживать рост этих цен на основе поощрения и поддержки добросовестной конкуренции.
Формирование экономической политики государства затрагивает интересы миллионов людей и предприятий, определяет перспективы развития страны. Это слишком важный вопрос, чтобы доверять его решение исключительно чиновникам. Основные цели, направления и методы реализации экономической политики должны формироваться в рамках широкого демократического процесса под контролем парламента и утверждаться законодательно, как это принято во многих развитых странах. Мы предлагаем политику экономического роста, выстроенную на основе общенациональных интересов и объективных возможностей активизировать наш научно-производственный и человеческий потенциал, мобилизовать имеющиеся у государства резервы.
2.4.2. Природная рента — нереализованный резерв
Россия имеет крупнейшие в мире запасы полезных ископаемых; их прогнозный потенциал оценивается более чем в 140 трлн. долларов. По объемам речного стока Россия занима-
ет второе место в мире после Бразилии. Обеспеченность па хотными землями (на душу населения) больше среднемировой в 7 раз, запасами древесины — в 14 раз. По оценкам Мирового совета по энергии, на территории нашей страны сосредоточено около 60% мировых запасов невозобновляемых природных ресурсов, в том числе 20% запасов нефти, 35% газа, 12% угля. Значительны запасы золота, алмазов, железных руд, цветных и редких металлов. Эффективное использование этого колоссального природно-ресурсного потенциала в общенациональных интересах может стать надежной основой для обеспечения широкой системы социальных гарантий и роста общественного благосостояния.
Большинство государств изымают сверхприбыль от использования природных ресурсов в свой бюджет и тратят на общенациональные цели. В экономической теории эта сверхприбыль, не зависящая от деятельности предприятий и получаемая за счет уникальных свойств эксплуатируемых природных ресурсов, называется природной рентой. По оценке Комитета по защите прав граждан на общенациональные природные ресурсы, ежегодный объем природной ренты, образующейся только при эксплуатации российских месторождений углеводородов и металлических руд, а также гидроэнергетических ресурсов, при нынешней ценовой конъюнктуре составляет более 60 млрд. долларов. В том числе, в нефтегазовом комплексе ежегодный объем природной ренты в 2000— 2006 гг. оценивается в 40—60 млрд. долларов, в металлургическом комплексе — в 5—10 млрд. долларов.
Использование столь существенных доходов, образующихся за счет эксплуатации принадлежащих государству природных ресурсов в общенациональных интересах, позволило бы обеспечить выполнение всех социальных обязательств государства. Однако эти доходы присваиваются небольшой группой находящихся при власти людей в своих частных интересах и направляются на кредитование дефицита бюджета иностранных государств, вместо того чтобы работать на интересы России. Мы видим в этом вопиющую несправедливость и безответственность властей.
Природные богатства дарованы нам Богом и должны использоваться в интересах всего общества, для решения
общенациональных задач. Это предполагает сохранение го сударственной собственности на природные ресурсы общефедерального значения (месторождения газа, нефти, угля, металлических руд, химического сырья, драгоценных металлов и камней, а также лесные массивы и водные пространства).
Для реализации права собственности государства (и, понятно, общества) на недра и другие природные ресурсы должен быть применен принцип платы за использование природных ресурсов в коммерческих целях. Необходимо восстановить платежи за использование недр и загрязнение окружающей среды, ввести прогрессивный налог на сверхприбыль, получаемую в ходе эксплуатации месторождений. Доступ частных предприятий к эксплуатации природных ресурсов должен регулироваться государством на началах открытой конкуренции, что предполагает создание механизма аукционной продажи прав на разработку месторождений и уникальных природных объектов. Плату за пользование водохранилищами в гидроэнергетических целях следует рассчитывать на основе природной ренты, исчисляемой как разница между среднеотраслевыми и индивидуальными издержками производства. Экспортные пошлины на вывоз сырьевых товаров должны исчисляться с учетом разницы между мировой ценой и издержками их производства по внутренним ценам.
Использование вышеперечисленных и других инструментов возврата природной ренты в доход государства как собственника природных ресурсов, успешно применяемых в мировой практике, позволит существенно поднять эффективность недропользования. Механизм изъятия природной ренты предполагает дифференцированный подход к месторождениям и предусматривает вычитание из налогооблагаемой базы тех средств, которые вкладываются в развитие производства, разработку месторождений или экологические мероприятия. При таком подходе изыматься в доход государства будут сверхприбыли, которые проматываются сегодня паразитирующими на присвоении общенациональных богатств олигархами на приобретение дворцов, яхт, предметов роскоши или остаются на их зарубежных счетах. Это станет стимулом для предприятий добывающей промышленности по-хозяйски относиться к природным ресурсам, повышать эффективность производства и заботиться об охране окружающей среды.
2.4.3. Проведение сбалансированной бюджетной политики
Бюджет является основным инструментом социальноэкономической политики государства. Его эффективное использование предполагает программно-целевой подход к планированию государственных расходов на основе задач социально-экономической политики и действующих правовых норм. К сожалению, бюджетная политика нынешнего Российского государства не отвечает этим требованиям, ведется хаотично и крайне неэффективно. Критически важные для общества виды деятельности финансируются по остаточному принципу, без учета законодательно установленных нормативов. Нет нацеленности на решение острейших социальных проблем, среди которых массовая бедность, преступность, технологическая отсталость и неконкурентоспособность экономики, незащищенность страны перед лицом многочисленных внешних угроз.
Нехватка средств для решения этих проблем сочетается с огромным профицитом бюджета и со значительным налоговым бременем на труд и производство, которое необходимо снижать для стимулирования экономического роста.
Профицит федерального бюджета эквивалентен федеральной составляющей налога на прибыль, НДС и социального налога, вместе взятых. Если государство не в состоянии распорядиться средствами налогоплательщиков, вывозя четверть налоговых доходов за рубеж, то лучше оставить их предприятиям. Наиболее обременительные налоги, препятствующие экономическому росту, могут и должны быть снижены. В частности, целесообразно освободить от налогообложения часть прибыли предприятий, вкладываемой в развитие производства, внедрение новой техники, создание новых рабочих мест. То же касается доходов граждан, направляемых на образование, медицинское обслуживание, строительство и приобретение жилья. Следует отменить НДС, объем начисления которого десятикратно превышает реальные поступления, предоставив органам местного самоуправления возможность восстановления налога с продаж.
Получаемые сегодня бюджетные доходы позволяют обеспечить полноценное финансирование всех законодательно установленных социальных обязательств государства, отмененных под предлогом нехватки денег. Следует восстановить нормативы бюджетного финансирования образования, здравоохранения, науки, культуры, обороны и т.д. При этом необходимо осуществить выравнивание социальных расходов на душу населения в регионах через механизмы межбюджетных отношений. Профицит бюджета эквивалентен объему недофинансирования социальной сферы — как по отношению к мировым стандартам, так и исходя из объективной потребности простого воспроизводства социальных отраслей.
Расходы на образование должны составлять не менее 8% валового внутреннего продукта, на здравоохранение — не ниже 6% ВВП, на науку — 3% ВВП. Это предполагает, как минимум, удвоение расходов государства на социальные нужды, в том числе в целях повышения зарплаты работников бюджетной сферы не менее чем в 2 раза, и утроение ассигнований на решение задач развития страны.
В целях подъема инвестиционной и инновационной активности необходимо восстановить бюджет развития и систему федеральных целевых программ, ориентированных на решение приоритетных задач модернизации и структурной перестройки экономики и социальной сферы. Нужно также существенно увеличить ассигнования на государственные закупки новой техники для государственных нужд, льготное кредитование жилищного строительства, организацию лизинга новой авиационной, сельскохозяйственной и других видов техники для социально значимых отраслей, предприятиям которых требуется государственная поддержка для привлечения долгосрочных кредитов под модернизацию и обновление основных фондов.
2.4.4. Стимулирование роста производства
Формирование механизмов расширенного воспроизводства, кардинальное повышение инновационной и инвестиционной активности, обновление всей производственной инфраструктуры составляют важные задачи политики экономического роста. Ее нацеленность на рост общественного благосостояния предполагает повышение доходов населения, активизацию конечного спроса государства, замещение импорта и восстановление сбережений населения с направлением их на приобретение отечественных товаров. Для этого необходимо:
— организовать систему кредитования роста производства с использованием банков развития и механизмов рефинансирования коммерческих банков под залог векселей производственных предприятий;
— расширить сферу потребительского кредита на отечественные товары длительного пользования;
— обеспечить государственную поддержку развитию лизинга производимых в России техники, транспорта, оборудования;
— ориентировать закупки для государственных нужд, а также для контролируемых государством предприятий, на приобретение отечественных товаров; прекратить расходование средств государственного бюджета всех уровней на приобретение импортных товаров при наличии отечественных аналогов;
— стимулировать опережающий рост инвестиций в перспективные направления экономики за счет формирования государственных институтов и механизмов экономического развития, включая банки и бюджет развития;
— организовать систему государственной поддержки высокотехнологического экспорта посредством страхования и предоставления льготных экспортных кредитов, субсидий на сертификацию и контроль качества продукции;
— обеспечить восстановление полноценной системы денежного обращения путем переориентации механизма денежного предложения на рефинансирование производственной деятельности, восстановление всех функций национальной валюты, достижение полной конвертируемости рубля, придание ему статуса международной валюты, дедолларизации российской экономики;
— развернуть механизмы долгосрочного кредитования производства, в том числе в агропромышленном комплексе, в малом и среднем предпринимательстве, с использованием льготных кредитов, государственных гарантий, банков развития;
— добиться существенного уменьшения налоговой нагрузки на труд и производство — прежде всего за счет исключения из налогооблагаемой базы расходов на инвестиции,
научные исследования, разработку и внедрение новых техно логий, создание новых рабочих мест;
— предоставить реальную государственную поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе путем развертывания системы льготного кредитования малого предпринимательства;
— проводить действенную антимонопольную политику, направленную на пресечение недобросовестной конкуренции, прекращение роста тарифов естественных монополий, защиту интересов отечественного товаропроизводителя, очищение экономики от организованной преступности и бюрократического произвола;
— обеспечить защиту законно приобретенных прав собственности, а также восстановление права государства на незаконно приватизированное имущество;
— усилить ответственность руководителей предприятий за результаты их хозяйственной деятельности на основе расширения контрольных функций акционеров, трудовых коллективов, государства;
— создать систему предотвращения угрозы техногенных катастроф в главных системах жизнеобеспечения путем наведения порядка в управлении РАО ЕЭС, Газпрома, Связьинвеста, Транснефти, МПС одновременно с обеспечением прозрачности их деятельности при кардинальном повышении ответственности их руководителей;
— принять государственную программу восстановления и модернизации жилищно-коммунального хозяйства с привлечением долгосрочных кредитов государственной банковской системы.
2.4.4.1. Структурная политика
Принятию концепции структурной перестройки экономики на основе современных технологий, разработке и реализации федеральных программ по ее осуществлению должен предшествовать выбор и реализация приоритетов техникоэкономического развития. Определение приоритетов техникоэкономического развития по основным направлениям научно-технического прогресса должно вестись с учетом закономерностей долгосрочного экономического роста, глобальных направлений технико-экономического развития и национальных конкурентных преимуществ. Эти приоритеты должны реализовываться посредством финансируемых при поддержке государства целевых программ, льготных кредитов, государственных закупок и предоставления государственных гарантий под инвестиции в закупки капиталоемкого оборудования отечественного производства. К выбираемым приоритетам следует предъявлять следующие требования.
С научно-технической точки зрения, выбираемые приоритеты должны соответствовать перспективным направлениям формирования современного технологического уклада и своевременного создания заделов для становления следующего. С экономической точки зрения, государственная поддержка приоритетных направлений должна характеризоваться двумя важнейшими признаками: обладать значительным внешним эффектом, улучшая общую экономическую среду и условия развития деловой активности; инициировать рост деловой активности в широком комплексе отраслей, сопряженных с приоритетными производствами. Иными словами, она должна создавать расширяющийся импульс роста спроса и деловой активности. С производственной точки зрения, государственное стимулирование должно приводить к такому росту конкурентоспособности предприятий, отраслей, при котором они выходят на самостоятельную траекторию расширенного воспроизводства в масштабах мирового рынка, играя роль «локомотивов роста» для всей экономики. С социальной точки зрения, реализация приоритетных направлений структурной перестройки экономики должна сопровождаться расширением занятости, повышением реальной зарплаты и квалификации работающего населения, общим ростом благосостояния народа.
К приоритетным направлениям, осуществление которых удовлетворяет всем необходимым критериям, относятся, в частности, следующие:
— освоение современных информационных технологий;
— развитие биотехнологий, в особенности генной инженерии и других направлений приложения микробиологических исследований, поднимающих эффективность здравоохранения, агропромышленного комплекса, фармакологической и других отраслей промышленности;
— развитие новых микроэлектронных технологий и со временных средств автоматизации, позволяющих резко поднять конкурентоспособность и эффективность отечественного машиностроения;
— развитие лазерных технологий;
— обновление парка гражданской авиации на основе организации производства и лизинга современных моделей самолетов отечественного производства;
— обновление оборудования электростанций, износ которого приближается к критическим пределам, а также модернизация атомных станций;
— развитие технологий переработки и использования природного газа;
— развитие комплекса технологий ядерного цикла, расширение сферы их использования;
— развитие современных транспортных узлов, позволяющих существенно улучшить скорость и надежность комбинированных перевозок;
— развитие жилищного строительства и модернизация
ЖКХ с использованием современных технологий;
— развитие информационной инфраструктуры на основе современных систем спутниковой и оптоволоконной связи, сотовой связи в городах;
— модернизация непроизводственной сферы на основе современного отечественного оборудования (диагностические приборы и лазеры для медицины, вычислительная техника для системы образования и т.д.);
— оздоровление окружающей среды на основе современных экологически чистых технологий.
Этот перечень приоритетных направлений технико-экономического развития составлен на основе анализа основных тенденций современного НТП с учетом состояния отечественного научно-промышленного потенциала. Он не претендует на полноту и окончательность. Но с него можно начинать формирование и реализацию государственной политики развития.
Работу по сохранению и активизации научно-промышленного потенциала в нынешних условиях его глубокого разрушения необходимо концентрировать на следующих направлениях:
— обеспечение приоритетности государственной поддержки конверсии наукоемкой промышленности и стимулирования НТП, двукратное повышение бюджетных ассигнований на финансирование науки;
— оптимизация структуры оборонно-промышленного комплекса, погашение задолженности, образовавшейся вследствие недофинансирования государственного оборонного заказа, обеспечение строгого исполнения ассигнований на закупку военной техники и проведение НИОКР в соответствии с требованиями законодательства;
— защита внутреннего рынка наукоемкой продукции, активная государственная поддержка ее экспорта;
— выявление и поддержка развития технологий, освоение которых обеспечит российским предприятиям конкурентные преимущества на мировом рынке;
— стимулирование предприятий, внедряющих отечественные научно-технические разработки путем предоставления льгот по налогообложению и других видов государственной поддержки;
— разработка и реализация программ развития территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала (технополисов и наукоградов);
— субсидирование импорта перспективных современных технологий и научно-технической информации.
Стимулирование инновационной активности является важнейшим направлением политики развития, ключевым для преодоления депрессии. Реализация этого направления включает следующие элементы:
— учет затрат предприятий на проведение НИОКР, модернизацию производства и внедрение новых технологий в составе издержек производства, освобождение их от налогообложения;
— создание с помощью государства инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов научных исследований;
— субсидирование расходов на защиту интеллектуальной собственности на отечественные изобретения и разработки за рубежом;
— сохранение информационной инфраструктуры научноисследовательских работ, поддержание сети научно-технических библиотек, субсидирование их деятельности по предос тавлению услуг пользования информационными сетями и базами данных, а также по закупке научной литературы;
— поддержание функционирования опытных стендов, экспериментальных установок и опытных производств;
— активное вовлечение в осуществление приоритетных направлений НТП научно-технического потенциала СНГ.
2.4.4.2. Внешнеторговая политика
Неотъемлемой составляющей политики экономического роста является реализация комплекса мер по эффективной защите интересов страны в условиях открытости народного хозяйства и острой международной конкуренции.
Необходимо защищать внутренний рынок от недобросовестной конкуренции импортеров, одновременно повышая конкурентоспособность отечественного производства и содействуя продвижению отечественных товаров с высокой добавленной стоимостью на мировой рынок. Для этого должны быть реализованы следующие направления и меры государственного регулирования внешней торговли:
— определение таможенных тарифов исходя из задач структурной и промышленной политики, направленной на расширение производства на существующих и вновь создаваемых мощностях, стимулирование импорта новейших технологий;
— восстановление жесткого госконтроля за качеством импортируемых товаров для защиты прав потребителей и устранения дискриминации отечественных товаропроизводителей в процедурах контроля качества и сертификации продукции;
— принятие эффективных мер для защиты внутреннего рынка — с использованием количественных ограничений, антидемпинговых и компенсационных пошлин для устранения дискриминации отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке (по условиям производства и поставок импортных товаров, особенно сельскохозяйственных);
— создание системы государственного страхования экспортных кредитов и поставок;
— разработка комплекса государственных гарантий и кредитов при финансировании экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе для расширения инвестиционного сотрудничества;
— активизация внешнеполитических усилий по устранению дискриминационных ограничений на ввоз российской продукции, защите прав российских граждан и организаций за рубежом, созданию условий для взаимовыгодной международной экономической интеграции;
— максимальное развитие интеграционных процессов в пределах СНГ, восстановление на территории Содружества единого экономического пространства.
При вступлении России в ВТО недопустимо принятие условий, подрывающих конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей и ведущих к росту безработицы и снижению уровня жизни в нашей стране. В частности, недопустимо принятие каких-либо обязательств по повышению цен на энергоносители, либерализации иммиграционного режима, снятию ограничений на ввоз иностранных товаров, производство которых ведется в России. Необходимо сохранить возможности проведения политики стимулирования инновационной и инвестиционной активности, создания условий для экономического роста. Необходимым условием является сохранение национального суверенитета в финансовой сфере, что предполагает установление ограничений в отношении деятельности иностранных кредитных и страховых организаций.
2.4.5. Агропромышленная политика и модернизация лесопромышленного комплекса
Аграрно-промышленный комплекс (АПК) имеет жизненно важное для общества значение, определяя одну из главных составляющих национальной независимости государства — его продовольственную безопасность.
В бюджете средней российской семьи расходы на продукты питания достигают 50—60% всех затрат. В то же время потребности населения страны в основных продуктах питания за счет отечественного производства с каждым годом удовлетворяются все меньше. Доля импорта в общем объеме потребления населением продовольствия достигла 30—32%, что выше критического уровня продовольственной безопасности страны.
Нормализация воспроизводства агропромышленного ком плекса требует соответствующей государственной политики, обусловленной как текущими проблемами, так и объективными трудностями сельскохозяйственного производства, связанными с цикличностью и рискованностью этой отрасли, а также с особыми условиями крестьянского образа жизни.
Во-первых, необходимо активное участие государства в создании рынка продовольствия, в том числе:
— формирование Федерального страхового фонда (по международным нормам, на 60 дней питания) в размере не менее трех миллионов тонн продовольственной пшеницы;
— осуществление закупок зерна и других продуктов первой необходимости в региональные продовольственные фонды;
— решительная декриминализация и демонополизация товаропроводящей сети, обеспечение прямого доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынки городов, которые необходимо очистить от организованной преступности;
— создание полноценной системы долгосрочного кредитования АПК и лизинга оборудования, которая позволит крестьянским хозяйствам создавать собственные перерабатывающие мощности, освобождаясь от диктата монополистов.
Во-вторых, нужно обеспечить должную защиту внутреннего рынка от недобросовестных импортеров. Импорт продовольствия играет существенную роль в снабжении наших сограждан, и речь не идет о том, чтобы вовсе отказаться от ввоза продуктов сельскохозяйственного производства. Однако, чтобы создать благоприятные для отечественных производителей конкурентные условия и обеспечить более полное удовлетворение спроса, необходимо:
— определить рациональную структуру импорта, которая обеспечивала бы баланс интересов государства, населения и сельхозпроизводителей;
— ввести компенсационные пошлины на импортные товары, производство и экспорт которых субсидируется зарубежными государствами;
— обеспечить жесткий контроль качества импортируемых продуктов питания и сырья для их производства в соответствии с принятыми в России стандартами.
В-третьих, целесообразно повышение удельного веса рас ходов на сельское хозяйство и рыболовство в бюджетах всех уровней.
Расходы федерального бюджета на сельское хозяйство упали с 9,8% в 1991 г. до 3% в настоящее время. Перенесение финансирования инженерной и социальной инфраструктуры села с федерального на территориальный уровень привело к резкому снижению инвестиций в развитие производства. Недоступность долгосрочных кредитов для подавляющего большинства сельскохозяйственных предприятий диктует необходимость мер государственной поддержки для воспроизводства и обновления основных фондов.
Особое значение имеет внедрение новейших технологий, позволяющих многократно повысить эффективность растениеводства и животноводства, обеспечить прибыльное ведение хозяйства в традиционно убыточных зонах.
В-четвертых, необходимо развитие системы кредитования сельского хозяйства.
Нынешнее тяжелое финансовое положение подавляющего большинства товаропроизводителей сделало кредит недоступным. С учетом того, что убыточность сельского хозяйства стала результатом дискриминации этой отрасли из-за «ножниц цен», субсидируемого иностранными государствами импорта и неоправданно высоких процентных ставок, необходима государственная поддержка для выравнивания финансового положения отрасли:
— отсрочить все долги на пять лет;
— расширить объемы льготных кредитов с применением механизмов субсидирования процентных ставок;
— при помощи бюджета развития и других специализированных финансово-кредитных институтов организовать предоставление долгосрочных кредитов для сельхозпредприятий под обновление основных фондов:
— принять меры по стимулированию деятельности кредитно-финансовых институтов в аграрном секторе, в частности — кредитных кооперативов.
Аналогичные проблемы предстоит решать и в других отраслях, использующих воспроизводимые природные ресурсы, — в лесопромышленном комплексе и в рыбном хозяйстве.
Рыбное хозяйство, как и агропромышленное производ ство, характеризуется сезонностью и ведется в условиях погодно-климатических рисков, объективно снижающих прибыльность и инвестиционную привлекательность отрасли. Для преодоления этих негативных факторов необходима государственная поддержка, в том числе:
— организация льготного кредитования оборотных средств рыболовецких хозяйств;
— создание при финансовой поддержке государства системы лизинга рыболовецких судов, плавбаз и других капиталоемких машин, оборудования для рыбопромышленного комплекса;
— восстановление и развитие государственной системы воспроизводства рыбных ресурсов, а также контроля над их использованием;
— создание эффективной системы распределения прав на вылов рыбы в интересах отечественных рыболовецких хозяйств;
— введение системы автоматизированного мониторинга всех рыболовецких судов, находящихся в российских водах.
Россия обладает крупнейшими в мире запасами лесных ресурсов. Однако эффективность их использования на порядок ниже, чем во многих иных странах. Это объясняется несовершенством транспортных коммуникаций и недостаточной развитостью инфраструктуры лесозаготовительных производств, удаленностью деревообрабатывающих предприятий от доступных для эксплуатации лесов, изношенностью оборудования и низким техническим уровнем предприятий отрасли. Кроме того, исторически сложившаяся государственная политика в области лесного хозяйства не обеспечивает эффективное использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов.
При поддержке банка и бюджета развития должны быть реализованы следующие приоритетные направления развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса:
— внедрение системы сертификации лесных ресурсов и лесохозяйственной деятельности;
— формирование комплексных деревообрабатывающих производств, основанных на углубленной переработке леса; — повышение инвестиционной привлекательности лес ной промышленности за счет пересмотра механизмов налоговой политики;
— обеспечение эффективной практики лесопользования, проведение лесозащитных и лесовосстановительных мероприятий;
— стимулирование спроса на продукцию лесопромышленного комплекса (строительство комфортных индивидуальных домов на основе использования продуктов переработки древесины, расширение мощностей целлюлозно-бумажной промышленности, использование гидролизного спирта в качестве моторного топлива и др.);
— развитие автономных источников тепло- и электроэнергии на основе биотоплива из древесины;
— организация переработки мелкотоварной древесины и отходов лесозаготовок в корма и кормовые добавки для скота.
Необходимые условия развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса — льготное кредитование, финансирование централизованных мероприятий по защите и восстановлению лесных угодий. Для обновления основных фондов отрасли необходимо создание государственной лизинговой компании, предоставляющей в долгосрочную аренду предприятиям современное оборудование и технику, изготовленные на отечественных машиностроительных заводах.
Для расширения сбыта российской продукции на мировом рынке целесообразно создание международной лесной биржи. В результате можно добиться оптимизации ценовой политики и предоставления необходимых финансовых гарантий поставок продуктов лесопереработки напрямую от производителя к потребителю, минуя посреднические структуры.
В целях прекращения хищнического разграбления лесных богатств нужны изменения в Лесном кодексе. Следует, в частности, закрепить в государственной собственности земли лесного фонда, восстановить осуществляемый органами власти и управления контроль над коммерческой эксплуатацией лесных угодий и воспроизводством леса. Необходимо создать механизм сдачи лесов в аренду на срок не менее 50 лет,
предусмотрев при этом обязанность арендаторов проводить лесовосстановительные мероприятия, развивать инфраструктуру (дороги, склады и пр.), осуществлять платежи органам управления на воспроизводство леса, делать рентные отчисления государству, а также не препятствовать свободному доступу граждан в леса в целях отдыха, собирательства и охоты. Нужно установить реальную ответственность арендаторов за соблюдение норм эксплуатации лесных угодий.
2.4.6. Отношения собственности и общенациональное достояние
Основное условие оптимизации отношений собственности — общественное признание и законодательное закрепление ответственности собственника за эффективность использования имущества, а также за последствия предпринимательской деятельности, в том числе социальные и экологические.
Для установления такой ответственности необходимо:
— сохранение государственной (общенародной) собственности на природные ресурсы, на основные элементы энергетической, транспортной, информационной и социальной инфраструктур, на структурообразующие предприятия оборонного комплекса, финансовой и социальной сферы;
— предпочтительное использование смешанных (с участием государства) форм собственности, а также прямое государственное регулирование в высокомонополизированных отраслях экономики;
— поддержание эффективной и огражденной от коррупции системы защиты законно приобретенной частной собственности;
— создание правовых и организационных условий для работы народных предприятий на основе коллективной и коллективно-долевой форм собственности.
Отношения собственности могут регулироваться только законом. Опыт последнего времени, связанный с расследованиями серьезных нарушений, которые были допущены в процессе приватизации многих крупных предприятий, убеждает, что эффективное управление производством предполагает полную ясность в вопросе о легитимности прав собственников.
Если объекты были приобретены на законных основаниях, собственники должны быть уверены, что им не грозит конфискация, что их права надежно защищены. Однако нарушения законности, допущенные в ходе приватизации, подлежат судебному устранению, а виновные в злоупотреблениях должностные лица должны быть строго наказаны.
Необходимо провести расследование всех сомнительных сделок по приватизации государственного имущества, в судебном порядке отменить договоры, заключенные с нарушениями правовых норм, и вернуть незаконно приватизированное имущество государству. Подлежат отмене и те сделки по приобретению госимущества, обязательства по которым собственниками не выполнены. Окончательная легализация прав собственности на имущество, приватизированное по заниженным ценам, предполагает уплату специального налога на прирост капитала в целях устранения несправедливости и достижения общественного согласия в распределении национального богатства.
Мы выступаем за гарантированную правовую защиту прав собственников, законно обладающих своим имуществом.
В сфере отношений собственности одним из самых больных для России всегда был и остается вопрос о земле. Земля в России, как и недра, является общенародным достоянием. Поэтому отношения землепользования в России должны регулироваться государством в общенародных интересах. Они исключают свободную куплю-продажу земель поселений, особо ценных земель и земель сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные угодья не должны становиться предметом перепродажи и спекулятивных операций. В противном случае невозможно избежать массового изгнания крестьян с земли, ее перераспределения в пользу узкой прослойки финансовой олигархии и «новых помещиков». Только организованный оборот земельных участков под контролем государства обеспечит условия для эффективного землепользования. Для этого нужно создать соответствующие правовые, организационные и финансовые условия. Земля должна быть закреплена за теми, кто живет и работает на ней, — за производственными сельскохозяйственными организациями, крестьянскими и фермерскими хозяйствами. Необходим строгий государственный контроль над оборотом уже распределенных по паям угодий.
Одновременно следует установить контроль над целевым использованием земли и предусмотреть судебную процедуру изъятия участков у тех, кто допускает ее недобросовестную эксплуатацию.
В государственной собственности должны остаться заповедники, лесные угодья, пастбища, курортные, водоохранные и рекреационные зоны; земли под объектами энергетической, транспортной и информационной инфраструктуры, государственными предприятиями, под памятниками истории и культуры, земли оборонного и стратегического значения; берега рек, морей, озер, а также другие участки и территории, общедоступное бесплатное использование которых отвечает национальным интересам.
Городские земли следует закрепить в муниципальной собственности. Органы местного самоуправления должны иметь возможности планирования развития городского хозяйства, а также получать земельную ренту от коммерческого использования земли. При этом земли под жилыми домами должны предоставляться гражданам на началах бесплатного, бессрочного, наследуемого землепользования; такие же права надо предоставить организациям социальной сферы — школам, вузам, больницам, детским домам, другим учреждениям образования, здравоохранения, науки и культуры. Коммерческим предприятиям земельные участки должны предоставляться в долгосрочную аренду с обязательством их целевого использования. Такая система использования городских земель наиболее соответствует интересам горожан — она исключает разрушительные для экономики города земельные спекуляции, обеспечивает использование земельной ренты в общественных интересах, минимизирует издержки развития городов, гарантирует гражданам бесплатное использование земли под жилыми домами.
Под контролем государства необходимо сформировать рациональную систему институтов земельного рынка — земельных и ипотечных банков, Фонда государственных земель, земельного кадастра, служб землеустройства и других, обеспечивающих целевое использование земли в интересах работающих и живущих на ней людей.
2.4.7. Денежное обращение
Организация денежного обращения — важнейшая функция государства, обеспечивающая макроэкономические условия развития народного хозяйства, регулирующая оборот капитала, его ввоз и вывоз, создающая эмиссионный доход. Длительное время российская денежная система находится в неудовлетворительном состоянии, не обеспечивая должным образом ни одну из функций денег. В качестве средства накопления и меры стоимости многие российские граждане и предприятия используют иностранную валюту; рубль вытеснен из сферы внешнеторговых расчетов, государство не получает эмиссионного дохода, который фактически приватизирован бюрократией Центрального банка. Страна потеряла за последнее десятилетие свыше 600 млрд. долларов вывезенного капитала.
Для нормализации денежного обращения следует, во-первых, создать каналы и механизмы притока денег в производственную сферу, перейдя к гибкому денежному предложению и регулированию процентных ставок. Одновременно нужны меры по предотвращению перетока денег в сферу финансовых спекуляций и пирамид.
Во-вторых, направлять работу органов денежного регулирования на цели кредитования экономического роста. Для этого:
а) декоммерциализировать деятельность Центрального
банка России (ЦБР), исключив для него возможность сооружения финансовых пирамид и проведения других спекулятивных операций, подрывающих стабильность финансовой системы государства;
б) прекратить использование гарантируемых государством высокодоходных спекулятивных инструментов, отвлекающих денежные ресурсы из производственной сферы (включая эмиссию государственных ценных бумаг с целью стерилизации денежной массы);
в) привести денежное предложение в соответствие со
спросом на деньги со стороны производственной сферы, организовав рефинансирование коммерческих банков под залог векселей производственных предприятий.
В-третьих, наладить целевое предоставление связанных низкопроцентных и беспроцентных кредитов. Необходимое для этого расширение денежного предложения потребует создания полноценных институтов (банков) развития, применения механизмов учета и переучета векселей производственных предприятий, а также использования инструментов государственных гарантий. В полную силу должен заработать Российский банк развития, функция которого — всесторонне стимулировать инвестиционную активность.
В-четвертых, должна быть введена система эффективного валютного контроля. Легализация вывоза капитала с принятием нового валютного законодательства наносит ущерб национальным интересам, закрепляя утрату значительной части инвестиционного потенциала страны. Для прекращения оттока капитала из страны следует восстановить разрешительную систему вывоза капитала в иностранной валюте, создать комплексную систему валютного, таможенного и налогового контроля. При этом вывоз капитала резидентами следует ограничить потребностями обслуживания и расширения экспорта отечественных товаров, повышения их конкурентоспособности и развития международной кооперации производства, а вывоз капитала нерезидентами — объемами ранее сделанных инвестиций.
В-пятых, необходимо предпринять давно назревшие меры по расширению использования рубля в международных расчетах. Для этого снять ограничения валютного контроля на операции в рублях, перевести на рубли экспорт энергоносителей, решить технические вопросы банковского обслуживания международных расчетов в рублях, а также перейти к прямым котировкам иностранных валют всех основных торговых партнеров России к рублю. Придание рублю статуса международной валюты существенно расширит финансовые возможности российской экономики, снизит трансакционные издержки, повысит конкурентоспособность нашего народного хозяйства.
Сегодня возможна и необходима дедолларизация экономики и восстановление реальной денежной монополии государства. Центральный банк фактически отдал эту монополию США, привязав эмиссию национальной валюты к приросту валютных резервов, которые хранятся преимущественно в американских гособязательствах. Попустительствуя долларизации российской экономики, Банк России «подарил» США сотни миллиардов долларов в виде беспроцентных кредитов, оплаченных экспортом российских товаров и прямым вывозом капитала. Чтобы эти огромные средства начали работать на развитие российской экономики, они должны быть постепенно замещены рублями — в сфере сбережений и в экономическом обороте, включая проведение внешнеторговых расчетов за экспорт российских энергоносителей и импорт иностранных товаров.
Сегодня рубль достаточно обеспечен золотовалютными резервами, чтобы претендовать на роль одной из международных резервных валют.
Регулирование зарубежных инвестиций должно быть ориентировано на стимулирование притока прямых иностранных капиталовложений в производство при строгом соблюдении требований экономической безопасности страны. Целесообразно ввести систему гарантий защиты прямых иностранных капиталовложений от политических рисков и экспроприации. Такие же гарантии необходимо предоставить и законно образованному российскому капиталу. Одновременно должны быть определены сферы деятельности, передача контроля над которыми иностранцам запрещается или ограничивается — исходя из требований национальной безопасности.
Необходимо улучшение структуры валютных резервов страны, восстановление государственного контроля над их использованием.
В-шестых, обязательная предпосылка оздоровления финансового положения предприятий обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства — устранение ценовых диспропорций, образовавшихся вследствие многократного завышения цен на энергоносители, сырьевые товары и на продукцию естественных монополий. В этих целях необходимо разработать широкий спектр соответствующих инструментов государственного регулирования — от ограничения рентабельности торговых операций и пресечения картельных соглашений до временного замораживания цен. В том числе, предусматривать возможность введения: а) твердых цен и тарифов
на энергоресурсы, топливо, нефтепродукты и услуги транспорта; б) предельных розничных цен на потребительские товары первой необходимости; в) государственно-договорных цен на основные виды промышленного и сельскохозяйственного сырья. Следует предоставить товаропроизводителям законное право на определение цен реализации их продукции конечного назначения.
В-седьмых, восстановление доверия к финансовой системе невозможно без восстановления дореформенных сбережений населения в соответствии с их покупательной способностью на середину 1991 г. Совокупный долг государства перед гражданами составляет более 4 триллионов рублей, который необходимо соответствующим образом оформить, организовать его обслуживание и погашение.
Жесткая финансовая политика необходима не в доктринерском, а в практическом смысле. Это означает наведение порядка в управлении государственными финансами, отмену незаконно и необоснованно предоставленных преференций, строгую уголовную ответственность за контрабанду, незаконный вывоз капитала и уклонение от уплаты налогов, за подделку финансовых документов, неплатежи и другие экономические преступления.
2.4.8. Повышение эффективности естественных монополий
Контроль над естественными монополиями является одним из ключевых способов влияния государства на условия хозяйственной деятельности и на величину собственных доходов.
Главной задачей в реформировании естественных монополий является кардинальное повышение эффективности функционирования соответствующих инфраструктурных и жизнеобеспечивающих народнохозяйственных систем — жилищно-коммунальной, электроэнергетической, транспортной, телекоммуникационной и др.
Электроэнергетика как отрасль, охватывающая генерацию, транспортировку, распределение и сбыт электрической энергии, — важнейший элемент инфраструктуры народного хозяйства, гарантирующий технологическую целостность воспроизводственного процесса в общественном масштабе.
Пакет законов о реформировании электроэнергетики, принятый в частных интересах лиц, руководящих сегодня этой отраслью, противоречит общенародным интересам и требованиям национальной безопасности. Смысл проведенного менеджментом РАО ЕЭС и федеральным правительством реформирования отрасли заключается в ее дальнейшем раздроблении и приватизации по частям с сохранением локальных монополий. При этом разрушается базовое звено системы энергоснабжения — региональные вертикально интегрированные компании, расчленяется технологически единый процесс «генерация — транспортировка — распределение — сбыт» на обособленные виды бизнеса с появлением посредников-спекулянтов, устраняется государственный контроль над управлением энергопотоками и магистральными линиями электропередачи. В ближайшем будущем это может привести к подрыву энергетической безопасности страны, взлету тарифов на электроэнергию с тяжелыми экономическими и социальными последствиями, к блокированию притока в отрасль инвестиций.
Вместо приватизации и раздробления электроэнергетического комплекса под видом его реформирования мы считаем необходимым навести порядок в управлении единой энергетической системы страны. Для этого нужно:
— закрепить в государственной собственности гидро- и атомные электростанции, а также теплоэлектростанции межрегионального значения, магистральные линии электропередач, функции оператора энергоперетоками;
— сохранить двухуровневый — федерально-региональный — принцип государственного регулирования тарифов на электроэнергию при сближении региональных тарифов на основе оптимизации централизованно регулируемых энергопотоков и использования дешевой электроэнергии гидроэлектростанций.
— прекратить завышение тарифов на электроэнергию — на основе жесткого и прозрачного контроля над издержками ее генерирования и транспортировки, исключив непрофильные затраты и злоупотребления руководителей контролируемых государством корпораций.
Нельзя допустить самоустранения государства от ответственности за функционирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Отказ государства от ответственности за состояние ЖКХ, отмена субсидий, попустительство злоупотреблениям монополистов влечет повышение платежей за жилье и коммунальные услуги до уровня, недоступного миллионам малообеспеченных россиян. Правильная стратегия — не рост тарифов на услуги ЖКХ, а повышение эффективности этой сферы.
Единственно реалистичный вариант оздоровления ЖКХ — сначала провести модернизацию отрасли и лишь затем приступить к сокращению бюджетного финансирования. При этом необходимо на пять лет зафиксировать размер субсидий, используя их в качестве финансового обеспечения кредитования проектов модернизации ЖКХ, в том числе за счет средств государственной банковской системы. Одновременно следует сформировать рекомендуемый к внедрению пакет современных отечественных технологий энерго-, газо- и водоснабжения, что позволит в два-три раза повысить эффективность потребления соответствующих ресурсов.
Для модернизации жилищно-коммунальной отрасли на новейшей технологической основе необходимо:
— реализовать целевые программы энерго- и ресурсосбережения в ЖКХ;
— увеличить производство электроэнергии путем реализации перспективных инвестиционных проектов малой городской энергетики;
— провести оснащение коммунальных служб высококачественным отечественным оборудованием, что позволит кардинально снизить издержки по коммунальным услугам, уменьшить потери воды и тепла, продлить срок службы коммуникаций;
— приступить к практике заключения социальных договоров между производителями энергоресурсов, поставщиками и потребителями с принятием на себя взаимных долгосрочных обязательств.
Только после модернизации коммунального хозяйства и устранения практики завышения энерготарифов может идти речь об отмене субсидирования коммунальных услуг населению. Чтобы не спровоцировать падение уровня жизни людей, свертывание субсидий предприятиям коммунального хозяй-
ства должно проводиться после отработки системы предос тавления адресных пособий нуждающимся. При этом:
— доля оплаты коммунальных услуг не должна превышать 10% совокупного дохода семьи;
— процедура назначения субсидий должна носить заявительный характер, не обременяя граждан необходимостью доказательства своих прав на получение субсидий;
— должны быть исключены злоупотребления монопольным положением предприятий жилищно-коммунального хозяйства, приватизация которых не должна проводиться до полноценной демонополизации отрасли.
Необходимо пересмотреть и планы по реформированию Министерства путей сообщения, которое может повлечь за собой дробление единого комплекса, многократный рост монопольных эффектов и неизбежный рост тарифов.
Реформирование железнодорожного транспорта должно иметь следующие цели: оптимизация расходов, повышение экономической эффективности, привлечение инвестиций. Железные дороги, как и электроэнергетика, являются системообразующими отраслями экономики. На них приходится 81% всего отечественного грузооборота (без учета трубопроводного транспорта). В отрасли трудится более полутора миллионов человек, или 2% трудоспособного населения страны. В условиях огромной протяженности территории страны эффективное функционирование железнодорожного транспорта является условием сохранения единого экономического и социального пространства. Из этого следует необходимость их сохранения в государственной собственности.
Особое значение имеет подчинение интересам социально-экономического развития страны деятельности «Газпрома». В настоящее время при попустительстве государственного руководства «Газпром» опережающими темпами повышает цены на газ, стремясь максимизировать свои текущие сверхприбыли за счет наращивания экспорта в ущерб внутреннему потреблению. Это явное злоупотребление монопольным положением уже разрушило планы по формированию Единого экономического пространства в СНГ и грозит банкротством целым отраслям российской промышленности.
Нельзя допустить лоббируемую «Газпромом» либерали зацию ценообразования на газ для российских предприятий. Должно быть восстановлено жесткое государственное регулирование ценообразования на природный газ — исходя из реальных издержек его добычи и транспортировки. Следует отказаться от избыточного с точки зрения валютных потребностей страны экспорта газа, отдавая приоритет его потреблению в качестве сырья российской промышленностью.
2.4.9. Региональная политика
Одно из важных конкурентных преимуществ российской экономики — емкий общероссийский рынок, сочетающий возможности разных территорий. Его огромные размеры и разнообразие создают благоприятные перспективы эффективного, социально ориентированного экономического роста в каждом из субъектов Российской Федерации.
Обеспечение единого экономического пространства России требует политики низких тарифов на услуги транспорта и средств связи. Целесообразно восстановить субсидии на перевозки товаров и услуги связи в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Не менее важно реализовать политику снижения тарифов в электроэнергетике, обеспечить разумную степень их унификации, возродить единую электроэнергетическую систему страны.
На территориях, которые по объективным географическим причинам находятся в особо сложных условиях (удаленные регионы, в том числе районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности; Калининградская область), целесообразно ввести льготный режим хозяйственной деятельности, предусматривающий снижение налогов, субсидирование повышенных сезонных расходов, создание локальных экономических зон в рамках целевых программ развития депрессивных регионов. Этот льготный режим станет основой компенсации повышенных издержек в регионах, население которых ныне чувствует себя заброшенным и лишенным перспективы в собственной стране.
Единство социального пространства страны и предусмотренное Конституцией равенство прав граждан должно быть подкреплено универсальными для всей страны нормативами финансирования социальной сферы. Выравнивание бюджет ных расходов на душу населения должно стать важнейшей задачей организации межбюджетных отношений.
Региональные и местные органы власти должны обладать полномочиями и доходами, достаточными для организации социальной защиты населения, развития региональной производственной и социальной инфраструктуры, проведения общественных работ, а также организации контроля над эффективным природопользованием.
При этом взаимодействие федеральных и региональных органов не должно сводиться лишь к разделению полномочий. Реальный экономический федерализм нежизнеспособен без обеспечения прямого влияния субъектов Федерации на политику центральных властей. Необходимо создать эффективный механизм согласования интересов регионов при формировании федеральной экономической политики.
2.4.10. Планирование развития
Нынешняя хаотичная, ориентированная в основном на обслуживание интересов находящихся при власти групп влияния хозяйственная среда должна быть изменена. Очевидно, что нам необходимо социально-ответственное, ориентированное на стимулирование научно-технического прогресса и экономического роста управление социально-экономическим развитием страны.
В условиях доминирующего значения НТП в генерировании экономического роста все сколько-нибудь сложные организации планируют свое развитие на годы вперед. Все ответственные государства определяют свое развитие на основе долгосрочных научно-технических, экономических и социальных прогнозов. Наше государство, впервые применившее в свое время плановый подход к управлению социально-экономическим развитием, сегодня составляет исключение, не обременяя себя планированием будущего. Вместо системы прогнозов и планов различных направлений развития мы уже более десятилетия живем в реформаторской лихорадке. Каждое новое правительство объявляет о новом пакете реформ, сводящихся к очередному этапу демонтирования государственных функций и обязательств.
Научно обоснованный подход к управлению развити ем предусматривает разработку системы прогнозирования и индикативного планирования социально-экономического развития страны. Исходя из понимания закономерностей современного научно-технического и социально-экономического развития, прогнозы должны составляться на долгосрочный (15—25 лет), среднесрочный (5—10 лет) и краткосрочный (год) периоды. Последний служит основанием для формирования индикативного плана развития страны на год, который должен разрабатываться одновременно с проектом государственного бюджета. При этом рекомендательный и информационный характер индикативного плана для негосударственных субъектов должен сочетаться с его директивностью для чиновников и органов государственного управления всех уровней. Индикативный план включает характеристику всех основных макроэкономических параметров и инструментов политики, показателей государственного бюджета и программ развития государственного сектора.
В пятилетнем цикле планирования решающая роль отводится среднесрочным приоритетам научно-технического и социально-экономического развития страны. Их определение должно служить основой для разработки целевых программ, планов развития госсектора, а также для планирования мер государственного регулирования экономики и стимулирования экономического роста.
Пятнадцатилетний цикл прогнозирования должен быть нацелен на выбор стратегии повышения конкурентоспособности российской экономики. Главным при этом является прогнозирование прорывных направлений технологического прогресса. Их заблаговременное предвидение важно для своевременного формирования траектории будущего экономического роста на основе создания соответствующих конкурентных преимуществ в перспективных направлениях развития мировой экономики. Исходя из этого должны определяться приоритеты долгосрочного экономического развития страны, разрабатываться целевые научно-технические программы, стимулироваться наращивание научно-производственного потенциала страны.
Прогнозы социально-экономического развития страны должны служить ориентирами не только для госсектора, но и для всех хозяйствующих субъектов, заинтересованных в понимании перспектив своей деятельности в условиях быстро меняющейся экономической среды. Наряду с учеными и специалистами к разработке индикативных планов необходимо привлекать деловые круги, представителей крупных корпораций и ассоциаций товаропроизводителей, трудовые коллективы и профсоюзы. Это будет способствовать достижению общенационального согласия, укреплению социального партнерства и сотрудничества.
Грамотно организованное прогнозирование и планирование развития экономики снижает неопределенность и неустойчивость рыночной конъюнктуры, помогает предприятиям ориентироваться в перспективах развития страны, вовремя перераспределять капитал для освоения новых технологий и рынков сбыта.
- НРАВСТВЕННОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Нравственные ценности определяют состояние здоровья общества. Любые формы социально-экономических отношений могут эффективно работать только в адекватной культурно-нравственной среде. В частности, рыночные отношения будут работать на развитие экономики только при наличии жесткой ответственности их субъектов за выполнение взятых на себя обязательств, строгое соблюдение принципов добросовестной конкуренции и правового государства. Последнее, в свою очередь, должно быть очищено от коррупции, принимать законы в общенациональных интересах и обеспечивать их неукоснительное исполнение.
Нынешнее состояние государства и общества не позволяет проводить предлагаемую нами эффективную политику социальной справедливости и экономического роста. Она не реализуется не потому, что неизвестна руководителям государства, а вследствие доминирования не общенациональных, а частных интересов властей предержащих при принятии решений, затрагивающих структуру распределения национального богатства и дохода. Без очищения государства от коррупции, а рынка от организованной преступности и произвола монополистов эффективную экономику и справедливое общество построить невозможно.
Нравственное разложение властвующей элиты является главным препятствием развитию страны, росту экономики и общественного благосостояния. На всех уровнях управления сложилась круговая порука коррумпированных чиновников, организованной преступности и лживых проводников общественного мнения. Мы живем в мире искаженных представлений и двойных стандартов, в котором общественное сознание затуманено химерическими образами, ложными мифами, сиюминутными настроениями и ощущениями, фабрикуемыми ангажированными средствами массовой информации. Чтобы вырваться из этого состояния умопомрачения и обрести, наконец, ясность в понимании смысла происходящего и политическую волю к необходимым для развития страны изменениям, следует предпринять серьезные усилия по оздоровлению культурно-нравственной среды.
Прежде всего необходимо добиться правдивой оценки всех действий властей предержащих. Это одна из наших важнейших задач — нести людям понимание смысла принимаемых государственной властью решений, а также происходящих в стране процессов и событий. Мы должны не только добиваться объективности средств массовой информации, их ответственности за распространение клеветы, лжи и дезинформации, но нам и самим следует озаботиться объективным информированием населения, вести с людьми активную разъяснительную работу.
Не случайно своды первых законов нашего государства назывались Правдами. Это подчеркивало как обязательность их исполнения, так и объективную необходимость их принятия для регулирования общественных отношений. Борьба за строгое соблюдение общенациональных интересов при принятии законодательных актов и их последующее неукоснительное исполнение — важнейшие составляющие нашей деятельности. Для этого мы должны не только добиваться осуществления наших программных установок, но и вскрывать мотивы принятия противоречащих общенародным интересам решений, противодействовать злоупотреблениям, обличать коррупцию, некомпетентность и произвол облеченных властью лиц.
Наша обязанность — защищать не только общенациональные интересы, но и законные права каждого гражданина России, в том числе конституционное право на достойную жизнь и свободное развитие. Для этого мы должны оказывать политическую, юридическую и материальную поддержку каждому, кто нуждается в защите своих законных прав.
Мы должны способствовать оздоровлению культурнонравственной среды. Без этого попытки осуществления наших рекомендаций и программных требований не будут реализованы должным образом. В обществе должны заработать механизмы общественного контроля на основе традиционных нравственных ценностей российской культуры. Государственная политика должна наконец обрести свой смысл и содержание. Для этого важно не только в структурах государственной власти, но и в деловом сообществе, в средствах массовой информации, в общественном мнении сформировать соответствующие нравственные критерии. Несомненную помощь в этом окажут Социальная доктрина Русской православной церкви и Свод нравственных правил в экономике, разработанные Московской патриархией.
Культурное возрождение России, восстановление межнационального согласия, духовно-нравственное развитие общества должны стать важнейшими направлениями государственной политики. Русская культура, в которой соединились многовековые традиции народов, населяющих нашу страну, традиционно оказывала огромное влияние на развитие мировой культуры, поддерживая не только наш международный авторитет, но и обеспечивая стране серьезные конкурентные преимущества в мировой экономике. Наше культурное наследие — это великое богатство, полученное от предков. Наш долг — сохранить и приумножить его.
Реализация культурной политики невозможна без восстановления исконных российских духовно-нравственных ценностей в жизни каждого гражданина страны, носителем которых является Русская православная церковь и другие традиционные конфессии страны. Мы строим отношения с ними
на основе механизмов социального партнерства. Государство должно создавать максимально благоприятные условия для деятельности Церкви, не только защищая права верующих, но и предоставляя Церкви подкрепленный соответствующими ресурсами доступ в учреждения образования и здравоохранения, в Вооруженные силы, в места лишения свободы, в средства массовой информации для оказания духовной помощи людям, воспитания подрастающего поколения в духе любви и служения Богу и Отечеству.
Необходимо реализовать государственную программу культурного возрождения, предусматривающую кардинальное увеличение финансирования культурной сферы общества, а также повышение зарплаты работникам культуры и образования. Эта программа должна включать меры по восстановлению и развитию сети современных Домов культуры, публичных библиотек, кинотеатров и театров, деятельность которых должна быть глубокой по содержанию и высоконравственной по смыслу.
Возрастающую роль в государственной политике развития культуры играет благотворительность организаций и частных лиц. Поощрение этой деятельности должно заключаться как в области льготного налогообложения, так и в разработке системы знаков общественного и государственного признания. Масштабная благотворительная деятельность в области культуры и образования, стимулирования развития национального искусства, сохранения памятников материальной и духовной культуры, создания системы современных центров и учреждений привлечения масс к освоению традиционных культурных ценностей должна стать частью государственной политики, а также важной составляющей социальной ответственности крупного бизнеса.
Необходимо разработать комплекс мер по стимулированию восстановления высокого статуса работника культуры и образования как важного звена в обеспечении культурной преемственности поколений.
В сфере массовой культуры мы намерены:
— обеспечить реальную информационную безопасность Российской Федерации, защитить население, особенно детей и юношество, от психологической агрессии и «экранного терроризма», ведущих к нравственной деградации народа;
— противодействовать дальнейшей приватизации государственных радио-, электронных и печатных средств массовой информации и кинематографа;
— содействовать увеличению государственного заказа на создание произведений искусства высокого художественного и нравственного уровня.
* * *
Наша цель — построение в России общества социальной справедливости и ответственности на основе высокоэффективной экономики. Для ее достижения нужна только твердая политическая воля. В России имеются все возможности, чтобы в кратчайшие сроки разрешить главные экономические и социальные проблемы. Эти возможности не реализуются только потому, что затрагивают эгоистические интересы узкого круга лиц, наживающихся на присвоении общенародных богатств и сверхэксплуатации трудящихся. Эффективное использование сверхприбыли, полученной от эксплуатации природных богатств, обеспечение справедливой оплаты труда и социальных гарантий, восстановление полноценной национальной валюты, эффективное управление государственной собственностью — экономические источники сильной и социально ответственной государственной политики.
Мы сознаем всю серьезность стоящих перед нами задач. Они не сводятся лишь к преодолению господства олигархических кланов. Вновь, как это было не раз в истории России, нам предстоит совершить крупномасштабный экономический и научно-технологический рывок. Для нас это — и вдохновляющая перспектива, и работа, требующая профессионализма, культуры, ответственности. Мы уверены: у нас достанет политической воли, чтобы решить задачи духовно-нравственного возрождения и социально-экономического подъема России.
Мы в состоянии победить бедность в нашей стране. Для этого система государственного регулирования экономики должна работать в интересах всего народа, а не привилегированных кланов. Экономия на труде и социальная несправедливость должны безвозвратно уйти из нашей жизни. Главная производительная сила сегодня — это человек. И социальные гарантии его развития — необходимое условие и цель современного экономического роста. Поэтому мы выступаем за справедливую социально-экономическую политику, отвечающую жизненным интересам и России, и каждого из нас. Скорейшее решение социальных проблем — демографического кризиса, безработицы, несправедливо низкой оплаты труда, неравноправного доступа к качественным медицинским услугам и образованию — является непременным условием экономического роста и процветания нашей страны.
Мы должны вновь сделать Россию сильной — ведь тогда сильным будет каждый из нас. Для этого нам самим нужно научиться защищать собственные права, установить для всех без исключения руководителей правовую ответственность за результаты своей деятельности, покончить с коррупцией в государственных органах всех уровней. Безудержная эксплуатация труда и природных богатств должна быть заменена отношениями справедливого распределения национального дохода и социальным партнерством. Деловые круги должны осознать свою ответственность перед обществом за настоящее и будущее страны.
Для этого в деловых взаимоотношениях должны быть сформированы соответствующие нравственные стандарты взаимного выполнения обязательств, строгого соблюдения законности, понимания общественной значимости и смысла предпринимательской деятельности для подъема народного благосостояния и развития страны. Социальное партнерство и сотрудничество должны стать основой взаимодействия государства, деловых кругов и общества.
Наша важнейшая задача — всемерно способствовать объединению граждан для защиты своих интересов во всех сферах жизни — по вопросам веры и культуры, жизнеобеспечения и здоровья, воспитания и образования, оплаты труда и управления, экологии и пенсий, жилья и коммунальных услуг. Только на основе живого творчества и самоорганизации людей в России может сложиться настоящее гражданское общество. Необходимо подчинить политику государства интересам общества, защитить права человека на свободное развитие и достойную жизнь на всех уровнях государственной власти, обеспечить безусловное исполнение государством своих обязательств перед гражданами.
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИЗНАЛ ПРАВИЛЬНОСТЬ
НАШЕй ПРОГРАммЫ
— Сергей Юрьевич, Послание президента Федеральному Собранию прозвучало весьма неожиданно. От президента ждали заключительного, прощального послания, а получили весьма насыщенный и содержательный текст, говорящий о том, что надо делать в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе. В частности, президент предложил разделить Стабилизационный фонд на три части и инвестировать средства, которые попадают в Стабфонд. Обозначены направления, которые являются приоритетами — начиная от нанотехнологий и заканчивая строительством портов. Президент назвал конкретные суммы, которые должны на все это пойти, — это значительное увеличение госрасходов, что явно противоречит представлениям министров-экономистов. Каково ваше впечатление от Послания, как бы вы прокомментировали сказанное президентом?
— В президентском Послании нашли отражение те цели и задачи государственной политики, о необходимости которых мы говорили все последние годы. Многие из этих требований присутствуют в программе Народно-патриотического союза «Родина». Мы выполнили свою миссию в том смысле, что убедили нашу государственную власть реализовывать те цели и задачи, о которых спорили с нынешним правительством еще несколько лет назад. Сейчас ключевые положения программы «Социальная справедливость и экономический рост», с которой блок «Родина» шел на выборы, стали важными пунктами государственной стратегии. Очень хорошо, что президент назвал цифры ресурсов, которые необходимо сконцентрировать на реализации этих задач. Эти цифры совпадают с нашими оценками, которые мы делали в концепции альтернативной бюджетной политики. С таким документом мы выступали каждый раз при рассмотрении бюджета и обосновывали, что на модернизацию ЖКХ необходимо не менее 150 млрд. рублей в позапрошлогодних ценах. Президент назвал сумму в 250 млрд., и это правильная оценка. На прорывные направления технического прогресса закладывается 150 млрд. рублей — это тоже минимальный объем, который необходим для продвижения в области тех же нанотехнологий и молекулярной биологии.
Правда, остается открытым вопрос: а на какой период? Видимо, речь идет о трехлетнем бюджете. Я надеюсь, что эти цифры будут в нем отражены. Хочется верить, что правительство сможет реализовать поставленные президентом задачи. В чем, к сожалению, есть очень большие сомнения, поскольку два года назад и даже год назад Кудрин и Греф отрицали предложения, которые мы и от имени фракции «Родина» в Госдуме, и от имени Российской академии наук неоднократно направляли в правительство. И получали в ответ невнятное бормотание: мы, мол, не сможем эти ресурсы распределить, мы не знаем, как это сделать, это будет проедание бюджета, инфляция и разворовывание. Хочется надеяться, что у власти найдутся интеллектуальные ресурсы, способности, силы и компетенция, чтобы программу, о которой говорил президент, реализовать. Включая, кстати, не только те цели, которые были поставлены вчера, но и цели прошлогоднего послания, которые до сих пор не выполнены.
— А не означает ли то, о чем вчера говорил президент, что где-то в конце весны правительство или часть правительства может уйти в отставку? В данном случае, конечно, имеется в виду экономический блок.
— Наша фракция уже давно ставит вопрос об отставке правительства, но такая постановка вопроса не была поддержана президентом, и никто, кроме него, на ваш вопрос не ответит.
— Во всяком случае, Кудрин во время оглашения Послания сидел мрачнее тучи.
— Потому что была заявлена политика, которую Кудрин все время саботировал. Он проводник идеи не тратить нефтедоллары, мотивируя тем, что это якобы лишние деньги по определению. Эту идею ему подсказали в Международном валютном фонде и Мировом банке, где уже посчитано, что из России можно откачать до 20 млрд. долларов, то есть до 20% ВВП за три года. Астрономические суммы Стабфонда американцы уже начали планировать в качестве источника размещения своих облигаций. МВФ даже озвучивал конкретный график. Так что Кудрин отстаивает и пытается обосновать именно эту линию. Но то, что эта линия натолкнулась на по-
литическую волю президента, — очень позитивно. Если он отправит Кудрина в отставку, то будет легче реализовывать поставленные цели. А если не отправит — сложнее.
— Многие эксперты отмечали, что заявленные президентом цели и способы их реализации на том историческом горизонте, который был им обозначен (3—5 лет), нереализуемы.
— Абсолютно реализуемы. Это уже давно можно было сделать, и мы соответствующие проектировки предлагали в нашей альтернативной концепции бюджетной политики. Мы бы уже отремонтировали коммуналку, построили бы дороги, новые аэропорты и морские порты. На все это деньги есть уже как минимум три года. Более того — такие инвестиции достаточно быстро окупаются. Скажем, модернизация коммунального хозяйства в условиях нашего климата окупается за два отопительных сезона, а на севере — за один. Это как раз антиинфляционная мера, о чем Кудрин, видимо, не подозревает. Точно так же и строительство дорог дает колоссальный эффект в том числе за счет снижения пробок, расхода бензина — это в долгосрочном плане тоже антиинфляционная мера. Реконструкция морских портов — давно уже перезревшая задача, нерешенность которой ведет к тому, что много наших товаров идет через Прибалтику, а мы имеем лишь колоссальные упущенные выгоды.
Нанотехнологии и другие достижения технического прогресса отдачу принесут не сразу, но она будет нарастающей. Объем применения достижений нанотехнологий и молекулярной биологии сегодня растет с темпом 100% в год. Если мы оседлаем эту научно-техническую волну, то получим колоссальное преимущество.
— Но тут можно заметить: если у нас есть направления, по которым мы занимаем лидирующие позиции в мире или до недавнего времени занимали, например, аэрокосмос, то в нанотехнологиях нас многие страны уже существенно обогнали.
— Я не могу с вами согласиться. Это новое направление, где мы действительно не можем производить конкурентоспособного оборудования, но у нас есть вполне конкурентоспособные умы. В Московском государственном университете уже несколько лет существует факультет, который занимается нанотехнологиями. Наши специалисты работают на уровне мировых передовых достижений. Конечно, приборная база импортная, но, поскольку мы имеем дело с новой волной научно-технического прогресса, войти в эту волну вначале гораздо легче, чем в середине, а в конце будет вообще невозможно. Сегодня гораздо проще нарастить конкурентоспособность в нанотехнологиях и молекулярной биологии, чем в традиционной электронике. Здесь нужны умы, а наша фундаментальная наука и высшее образование их еще дают, и это может быть последний шанс для нас оседлать новую волну развития и выйти на инновационный путь. В обычной электронике, микроэлектронике мы уже отстали очень сильно, эта траектория уже насыщена. В нанотехнологиях же мы имеем дело с расширяющимся спросом и относительно небольшими инвестициями для входа в бизнес.
— А в рамках новой технологической волны нанотехнологии — это единственное направление?
— Нанотехнологии и молекулярная биология, генная инженерия — это тот уровень работы с материей, живой и неживой, который позволяет оперировать с атомами и молекулами вещества. И это направление дает сегодня колоссальное количество разнообразных возможностей и в конструкционных материалах, и в медицине, и в производстве приборов, и в машиностроении. Это действительно новая научно-техническая революция. Мы ее ожидали, прогнозировали, и она разворачивается у нас на глазах. Президент вовремя этот приоритет поставил в качестве ключевого — и это позитивно.
— Просто у нас сделан выбор — конкретно нанотехнологии. А почему не микробиология?
— Это совместимые вещи. Та же самая приборная база, которая используется в нанотехнологиях, используется и в молекулярной биологии. Просто Институт биоорганической химии президент посещал два месяца назад, а Курчатовский — две недели назад. Может быть, еще не все сложилось в общую картину. Но это две составляющие ключевого направления формирования нового технологического уклада, и то, что оно заявлено как приоритетное, — очень хорошо.
Опубликовано Экспертным каналом OPEC.RU 28 апреля 2007 г.
Вместо заключения
Объединение
или пОлитиЧеская сМерть
«Когда мы едины, мы непобедимы!» Этот популярный, скандируемый на демонстрациях народно-патриотических сил лозунг понятен всем, кроме лидеров политических партий. Политические амбиции вождей — извечный камень преткновения, о который разбиваются все попытки объединения патриотической оппозиции.
Парадокс политики по-российски
Не посвященному в премудрости политических постановок трудно понять, каким образом представители власти, политика которых отвергается подавляющим большинством населения, ухитряются побеждать на выборах? Действительно, социологические опросы свидетельствуют об устойчивом неприятии политики правительства и неудовлетворительной оценке его деятельности двумя третями российских избирателей. Поддерживают власть и согласны с ее политикой не более четверти населения.
Из этого следует неизбежность обвинительного приговора избирателей партии власти и ее представителям на выборах президента страны и Государственной думы. Но почему-то ненавидящий эту власть избиратель неизменно голосует за нее. Партия власти, политика которой отвергается 70% населения, собрала 70% голосов на президентских выборах и получила 70% мандатов на выборах в Госдуму. Может быть, система «ГАС-Выборы» просто перепутала «Единую Россию» с КПРФ и Центризбирком поменял их местами при оглашении итогов?
Конечно, фальсификации результатов выборов, грубые систематические нарушения избирательного законодательства — общепризнанный факт. Можно приводить тысячи примеров злоупотребления властью руководителями президентских, правительственных, губернских структур, органов местного самоуправления, средств массовой информации, правоохранительных органов. Многочисленные обращения граждан в защиту своих избирательных прав в суды и органы прокуратуры ничего не дают — даже когда со всей очевидностью доказывается фальсификация итогов голосования, судьи решают, что установленные правонарушения не повлияли на общие итоги выборов.
Но правовое признание сфальсифицированных выборов действительными демонстрирует неспособность или нежелание оппозиции бороться за права своих избирателей. Трудно себе представить массовую и систематическую фальсификацию выборов в Европе или в Америке. Почему же в России оппозиция не может пресечь воровство голосов избирателей и добиться соблюдения избирательного законодательства?
Можно, конечно, долго перечислять причины, почему выборы в России превращены в фарс: криминализация и коррумпированность государственной власти, отсутствие денег для организации контроля над подсчетом голосов… Все это так. Построенная административно-властная вертикаль держится на коррупции и шантаже. Вышестоящие дают воровать нижестоящим в обмен на политическую лояльность и соучастие в систематической фальсификации выборов. Сотни тысяч чиновников и находящихся на госслужбе лиц периодически привлекаются к совершению тяжкого преступления против общества, участвуя в крупномасштабном нарушении избирательного законодательства в ходе президентских и парламентских выборов. Это столь обыденное и даже само собой разумеющееся дело, что высокопоставленные чиновники президентской администрации не считают нужным даже скрывать планирование итогов выборов задолго до их проведения.
Вместе с тем, если бы лидеры оппозиции противостояли этим массовым преступлениям против общества, едва ли властям предержащим удавалось бы дурачить народ. Последние примеры политической борьбы в государствах с такой же, как у нас, политической культурой убедительно показали ограниченность возможностей «административного ресурса». Он теряет эффективность, как только сталкивается с организованной силой, готовой идти до конца в отстаивании своих интересов. Бюрократию парализует страх ответственности за преступления в случае смены власти, и готовность чиновников их совершать ради сохранения властных полномочий «высокого дяди» резко идет на убыль. Напуганная цветными революциями в бывших советских республиках, российская власть спешит «закручивать гайки» и «отвинчивать» не желающие крутиться в нужную стороны головы. Президентская администрация взяла курс на установление тотального контроля над избирательными процессами, пытаясь окончательно превратить выборы в шоу с заранее заданным результатом. Но желание воспроизвести в России туркменскую политическую модель будет зависеть от готовности лидеров оппозиции сыграть отведенные им роли в кремлевском политическом театре.
Политическая реформа
Перед президентскими выборами 2004 г. у власти был выбор: положиться на народ и дать ему возможность свободного выбора, разделив ответственность с законно избранным президентом, или сделать ставку на привычный административный ресурс, превратив выборы в фарс. К сожалению, власть выбрала второе, продемонстрировав полное неуважение к своим гражданам и нормам права. Курс на построение криминально-бюрократического авторитарного государства, действующего в интересах паразитической олигархии, окончательно определился. Руководители государства сами решили стать олигархами.
Вместо ранее провозглашенной диктатуры закона власть стала исповедовать культ денег и силы. Противостояние властвующей олигархии и общества окончательно приобрело антагонистический характер. Это проявилось как в социальной реформе, означавшей отказ федеральной власти от ответственности за обеспечение социальных гарантий, так и в поли тической реформе, лишившей граждан реальных избиратель ных прав и предоставившей президентской администрации возможность полностью управлять политическими процессами, блокировать деятельность неугодных кандидатов и эффективно планировать результаты парламентских выборов.
Одновременный контроль над представительной и исполнительной властью дает президентской администрации возможность влиять на все назначения в судебной системе. Таким образом, все ветви власти — законодательная, исполнительная, судебная и информационная — оказываются под полным контролем президента, выборы которого в этих условиях становятся простой формальностью.
После проведения политической реформы партии оказались перед выбором: доказать лояльность президентской администрации или прекратить существование. О том, что такой выбор есть, свидетельствует закрытие Минюстом партии «Созидание», осмелившейся вопреки угрозам из Кремля поддержать мою кандидатуру на президентских выборах. О необходимости доказывать лояльность, чтобы выжить, свидетельствует также опыт одной из старейших и наиболее массовых партий — Аграрной партии России, которой уже несколько месяцев не подтверждают перерегистрацию, намекая на необходимость дополнительных гарантий в политической лояльности.
Едва ли кто-нибудь сомневается в полной ангажированности Минюста, Федеральной регистрационной службы, Центризбиркома. Тому есть множество доказательств. К примеру, одного намека из президентской администрации руководству Минюста оказалось достаточно для отказа в регистрации нашей общественной организации «За достойную жизнь» без сколько-нибудь убедительных аргументов. Звонок из Кремля предопределил решение Минюста в отношении легитимизации раскольников Социалистической единой партии России, принятое в целях разрушения Народно-патриотического союза «Родина». Чиновники президентской администрации решают, какие партии зарегистрировать или закрыть, какие переименовать или вовсе расколоть, а Минюст с формально
независимой Федеральной регистрационной службой лишь оформляет эти решения. Эти зачастую противоправные решения практически невозможно оспорить — зависящие от Минюста судьи не решаются идти против начальства.
Над «независимостью» Центризбиркома остается лишь иронизировать. Этот орган фактически превратился в департамент президентской администрации по фабрикации итогов голосования. Многочисленные жалобы избирателей на грубейшее попрание их прав, систематические нарушения представителями власти избирательного законодательства и даже доказанные факты фальсификации итогов выборов ни разу не повлияли на окончательные, спущенные сверху решения ЦИК. Последние выборы в законодательные органы власти Воронежской и Рязанской областей существенно изменили представления о границах допустимой фальсификации — их просто больше нет.
Впрочем, в соответствии с общей логикой политреформы предпочтение сегодня отдается регулированию доступа к выборам. Действительно, зачем заниматься грязной работой по подтасовке результатов выборов, если можно заранее отстранить от них неугодных власти кандидатов? Последние поправки в избирательное законодательство в отношении оснований для недопущения к выборам дали ЦИК множество относительно легких и вполне легальных способов отстранения от участия в выборах неугодных партий.
Руководителям партий, желающим пройти в Государственную думу, приходится под страхом политической смерти доказывать свою лояльность президентской администрации. Для выживания партии это гораздо важнее, чем работа с избирателями и выполнение данных им обещаний. Чтобы облегчить им жизнь, президентская администрация удовлетворила давнюю просьбу партийных вождей о введении партийного крепостничества. В соответствии с общей логикой политреформы прошедшие в Государственную думу депутаты потеряли свободу. В случае их выхода из фракции той партии, по списку которой избирались, они автоматически теряют и депутатский мандат.
Таким образом, в обмен на узурпацию политического про цесса президентской администрацией руководителям допус каемых к нему политических партий разрешена приватизация последних. Олигархо-бюрократическая политическая модель окончательно сформировалась — самоизбираемый диктатор опирается на назначенных им политических помещиков, кормящихся от прикрепленных к ним бизнес-структур и рекрутирующих лично преданных функционеров за допуск к депутатским привилегиям. У этой модели только одна проблема — полное отсутствие какой-либо обратной связи с обществом. Сформированная президентской администрацией политическая система в принципе исключает появление на выборах новых не контролируемых ею партий или неугодных ей лиц. Осталось «зачистить» политическое пространство от тех, кто уже в нем находится без разрешения Кремля.
«Зачистка» политического пространства
«Зачистка» — излюбленное понятие нынешней власти, посвоему понимающей принципы правового государства. Место законов в их представлениях о государственном устройстве занимают понятия, частично заимствованные из преступного сообщества, частично — из практики спецслужб, частично — из причудливой смеси патриотических идей и личных интересов. Главные из последних — стремление к личному обогащению и удержание власти любой ценой. Поэтому все, кто угрожает этим интересам, объявляются врагами Отечества и подлежат «зачистке» с политического поля как «пятая колонна», мешающая власть предержащим управлять страной по собственным понятиям. Последние вращаются вокруг принципов личной преданности и «справедливого» распределения коррупционных доходов. Место идеологии занимает корпоративный интерес властвующей клики, главным политическим критерием которой становится простое правило: «кто не с нами, тот против нас».
Исходя из этого критерия, президентская администрация делит всех политиков и все организации на «своих» и «чужих». При этом идеологические различия не имеют значения.
Главное для зачисления в круг своих — строгое соблюдение установленных понятий и безусловной личной преданности президенту и его ставленникам, готовность беспрекословно выполнять все их требования. Все, кто не соблюдает этих требований, становятся «чужими» и подлежат «зачистке».
В настоящее время к безусловно «своим» президентская администрация относит выращенные ею «Единую Россию», «нашистов» и жириновцев. В этот же круг входят многие общественные и благотворительные организации — от «независимых» профсоюзов до обществ любителей животных. За доступ в этот привилегированный клуб в кремлевских коридорах идет борьба — руководители самых разных политических партий отталкивают друг друга локтями в приемных руководителей президентской администрации, доказывая свою преданность президенту и готовность исполнять любые поручения его назначенцев.
Те, кто отказывается от участия в этом кремлевском театре политических марионеток и претендует на самостоятельность, подлежат «зачистке» — на политической сцене должны остаться только куклы. В этом нынешняя власть видит залог своего самосохранения. Левые и правые, демократы и фашисты, либералы и консерваторы, монархисты и космополиты, зеленые и голубые — все должны назначаться и жестко контролироваться президентской администрацией, все политические роли должны исполняться в соответствии с разработанным кремлевскими политтехнологами сценарием и под их неусыпным контролем.
Поскольку в результате политреформы выход на сцену политического театра поставлен под жесткий контроль, «зачистке» подлежат те, кто на этой сцене оказался раньше и отказывается превращаться в куклу, рискуя сорвать предстоящие политические спектакли. В политике не должно остаться узнаваемых широкой публикой лиц, не контролируемых президентской администрацией.
Технология «зачистки» хорошо знакома автору этих строк, испытавшему «на собственной шкуре» почти весь арсенал орудий политических пыток кремлевской политинквизиции. Самые простые способы — подкуп и шантаж — хорошо дейст
вуют на амбициозных и ориентированных на личные интере сы деятелей, подвизающихся на политической сцене из коры стных интересов. Именно они были применены президентской администрацией в целях разрушения Народно-патриотического союза «Родина» после того, как он, получив поддержку пяти миллионов избирателей, стал самостоятельной политической силой. Часть депутатов фракции «Родина» не выдержали испытание политикой кнута и пряника, согласившись выполнять поручения президентской администрации в обмен на комфортное существование. Несмотря на это, идея объединения всех народно-патриотических сил продолжает жить и подпитывать здоровые побеги «Родины», создавая возможность возрождения народно-патриотического союза.
Для «вытаптывания» этих растущих без разрешения президентской администрации побегов применяются более изощренные технологии: клевета, уголовные преследования, акции устрашения, выдворение из страны и, наконец, физическое устранение. Первые две технологии мне тоже пришлось испытать лично. Помню, как после моего демонстративного ухода из правительства в знак протеста против решения ельцинской клики о совершении антиконституционного государственного переворота сыщики сбились с ног, пытаясь найти хоть какие-то компрометировавшие меня свидетельства. Поскольку ничего коррупционного они найти не могли, в ход пустили версию о нарушении мною государственной тайны, возбудив уголовное дело по факту обнаружения в расстрелянном Доме Советов секретных документов об экономических потерях России вследствие участия в экономических санкциях против Ирака, Ливии и Югославии. Нелепость обвинения в выполнении запроса высшего органа государственной власти вскоре стала очевидной, и кремлевским политтехнологам осталось только заняться фабрикацией и размещением клеветнических материалов.
Грязные политтехнологии, на которых специализируется президентская администрация, хорошо известны всем политикам, сохраняющим самостоятельность и отказывающимся от заманчивых предложений по исполнению ролей в кремлевском театре политических марионеток. Через кампании гряз ной клеветы, сфабрикованные уголовные преследования, покушения на жизнь и здоровье родственников прошли многие известные в стране политики. До сих пор покрыты тайной истинные причины убийств генерала Рохлина и журналиста Холодова, трагической гибели губернатора Лебедя.
Чем влиятельнее претендующий на самостоятельность политик, чем он настойчивее и убедительнее, тем более жесткие методы «зачистки» применяются для его устранения с политического пространства страны. Лидеры оппозиции должны понять, что действующая власть ставит их перед выбором: превратиться в политических кукол или стать героями народного сопротивления. Тем, кто к этому выбору не готов, придется оставить политическую деятельность — их просто перестанут замечать. Нынешняя власть не стесняется в средствах и действует вне правовых рамок. Противостоять ей могут только силы со стойкой идейной мотивацией, способные на самопожертвование ради спасения Отечества.
За что сражаемся?
Нынешняя власть пытается выдавать себя за демократическую, следующую принципам правового социально ориентированного и правового государства. В действительности нет ни того, ни другого, ни третьего. По сути она продолжает ельцинскую политику разграбления национального богатства под прикрытием либерально-демократических лозунгов и псевдопатриотической демагогии. Вслед за приватизацией производственных предприятий она приступила к разделу природных ресурсов и социальной сферы. Установленные законодательством препоны на пути к приватизации земли, лесов, замкнутых водоемов, участков недр и даже объектов недвижимости социальной сферы планируется устранить силами думского большинства ближайшей осенью.
Объективный анализ реальных последствий проводимой в стране социально-экономической политики доказывает, что главной целью деятельности нынешней власти является максимизация доходов властвующей олигархии и вывоз капитала за рубеж. По последнему показателю установлены новые ре корды — Россию покидает уже более 50 млрд. долларов еже годно, причем главным экспортером капитала стало само го сударство. Сверхприбыли олигархов тоже растут пропорционально повышению мировых цен на вывозимые из России сырьевые товары. Выросшие до астрономических величин доходы от эксплуатации формально государственных природных ресурсов по-прежнему оседают в карманах приближенных к власти лиц.
Единственное отличие нынешнего режима власти от ельцинского заключается в перемене мест слагаемых. Если при Ельцине страна управлялась космополитической олигархией в симбиозе с коррумпированной бюрократической верхушкой, в котором последняя обслуживала первую, то сегодня роли поменялись. Олигархи вынуждены присягнуть на верность политическому руководству и купить себе индульгенции, поделившись доходами и собственностью. В обмен на политическую лояльность и материальную поддержку власти олигархи сохранили возможности получения сверхприбылей за счет присвоения доходов от эксплуатации национальных богатств. Но от перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. Отношение власти и общества осталось прежним — отчужденным и антагонистическим. После проведения социальной реформы, сбросив с себя социальные обязательства на регионы и население, власть окончательно приобрела откровенно паразитический характер.
По существу властно-экономических отношений российская политическая система мало чем отличается от большинства олигархо-коррупционных режимов слаборазвитых стран. Не вызывает сомнений и идентичность результатов — обогащение компрадорской властвующей элиты при обнищании лишенного права на выбор народа, вывоз капитала и утечка умов за рубеж на фоне деградации внутреннего научнопроизводственного и интеллектуального потенциала. Эти результаты видны сегодня невооруженным глазом: разрушение передовых отраслей промышленности, упадок научной и интеллектуальной деятельности, стремительная деградация образования, здравоохранения и культуры, чудовищное расслоение населения по уровню доходов, опускание более по
ловины российских семей в беспросветную нищету на фоне сказочного обогащения узкого круга участвующих во власти олигархов.
Проводимая в стране социально-экономическая политика не выдерживает критики — она превращает Россию в сырьевую периферию мирового рынка, влечет деградацию производительных сил страны, фактическое лишение ее национального суверенитета, а большинства граждан — права на достойную жизнь. Эта политика отвергается научным сообществом и специалистами как вредная для страны, противоречащая общенародным интересам. Тем не менее она проводится уже многие годы и сегодня приобретает завершенные правовые формы. Это было бы невозможно при наличии у населения реальной возможности демократического выбора и механизмов политической ответственности за проводимую политику.
Лидеры оппозиции, неспособные объяснить народу пагубность проводимой в стране политики и поднять его на борьбу за ее изменение в соответствии с общенациональными интересами, фактически становятся соучастниками преступления властвующей олигархии против общества. Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. На лидерах оппозиции лежит ответственность за достижение декларируемых ими целей, призванных объединить народные массы в борьбе за свои интересы и спасение Отечества от разграбления и колонизации. Для этого они должны не заигрывать с властью и не имитировать борьбу с ней, а указать народу путь к общенациональному успеху и процветанию, разработать и реализовать план достижения и оздоровления власти для практического осуществления привлекательной для всех и спасительной для страны программы социально-экономического развития.
К сожалению, вместо осуществления общей программы действий лидеры народно-патриотических сил так и не смогли объединиться, запутали население противоречивыми и малореалистичными лозунгами, чем усугубили апатичное состояние общественного сознания и тем самым помогли олигархии удержать власть.
Помню, с каким сожалением мы восприняли отказ руко водства КПРФ от создания избирательного блока КПРФ — НПСР. Годы последовательной и непростой работы по формированию единой коалиции народно-патриотических сил были перечеркнуты личными амбициями отдельных политиков, умноженных на заинтересованность некоторых олигархов. После отказа руководства КПРФ от объединения нам пришлось в спешном порядке создавать Народно-патриотический союз «Родина», который получил поддержку избирателей, поверивших в серьезность наших намерений по объединению всех здоровых народно-патриотических сил на основе здравой программы социальной справедливости и экономического роста.
Действительно, избирательный блок «Родина» стал перспективной моделью объединения народно-патриотических сил на прагматичной основе. Составленный из разных патриотических организаций как левой, так и правой ориентации, он привлек голоса из всех социальных групп, за исключением организованной преступности и олигархических кланов. В результате глубоких социологических исследований, проведенных Институтом открытой экономики, выяснилось, что половина проголосовавших за блок «Родина» избирателей ранее являлись сторонниками «Единой России», пятая часть — сторонниками КПРФ, десятая часть численностью около полумиллиона избирателей — сторонниками СПС, а более 700 тыс. человек ранее голосовали за «Яблоко».
Успех народно-патриотического союза «Родина» доказал наличие доминирующего в обществе требования объединения всех здоровых сил. Не согласившиеся с этим оппозиционные политические партии потеряли голоса. В идеологически расколотом обществе победа оппозиции возможна только на прагматичной основе реалистичной программы спасения Отечества. Спасения научно-технического потенциала — от деградации, производственного потенциала — от разрушения, человеческого и интеллектуального потенциала — от вырождения, страны — от колонизации, нации — от исчезновения.
Политические идеологии могут найти практическое воплощение только в обществе верующих в соответствующие нетленные ценности. Монархия сильна верой граждан в Бога и сакральное происхождение монарха, диктатура КПСС — верой граждан в возможность построения коммунизма в отдельно взятой стране и в «ум, честь и совесть» партии. Когда такой веры нет, задача государства сводится к созданию благоприятных условий для достойной жизни каждого человека, к сдерживанию зла. А критерием эффективности государственной власти становится голосование за избрание во власть народных представителей.
Если мы всерьез боремся за власть, то должны исходить из реальной оценки предпочтений избирателей и не пытаться их увлечь несбыточными мечтами. Бессмысленно, например, агитировать за установление монархии путем всеобщих демократических выборов, так как это в принципе противоречит пониманию роли монарха как помазанника Божьего. Точно так же невозможно путем демократических выборов установить диктатуру пролетариата и одержать победу в классовой борьбе. В первом случае большинство граждан должны хотя бы верить в Бога, во втором — в построение рая на земле.
Предлагать гражданам заведомо нереалистичные проекты — значит, сбивать их с толку и лить воду на мельницу власти, которая предлагает, может быть, не столь масштабные и яркие, но вполне конкретные и существенные для каждой семьи улучшения. Победа народно-патриотических сил возможна только на основе реалистичной и понятной гражданам программы быстрого и последовательного улучшения уровня жизни.
Такая программа социальной справедливости и экономического роста лежала в основе агитационной кампании блока «Родина». Она была подготовлена на основе разработок ведущих российских ученых, поддержана товаропроизводителями и интеллектуальной элитой страны. Ее нацеленность на конкретные практические результаты — четырехкратное повышение оплаты труда, обеспечение социальных гарантий, выход на устойчивый экономический рост с темпом не менее 10% в год за счет активизации научно-производственного потенциала страны и трехкратного повышения инвестиций — и четкое указание технологии их достижения обусловили активную
поддержку избирателей. Они ненавидят и презирают дейст вующую власть. Но это не означает их готовности автоматически голосовать за народно-патриотические силы. Нам необходимо продемонстрировать серьезность своих намерений бороться за власть — не только предложить реалистичную и понятную людям программу реализации общенародных интересов, но и убедить их в нашей готовности отстаивать эти интересы до конца. Для этого надо хотя бы объединиться.
Объединение — залог успеха
Прошедшие в течение последнего года выборы в законодательные собрания субъектов Федерации свидетельствуют о неуклонном падении поддержки партии власти. При явке избирателей в 25—30% «Единая Россия» в разных регионах получила от 20 до 30% голосов, поданных за партийные списки. С учетом крупномасштабных фальсификаций, доходивших, по оценкам наблюдателей, до 50% бюллетеней в сельских районах, реально за партию власти голосовало от 10 до 20% избирателей, принявших участие в выборах. Это означает, что при увеличении явки на выборы до 60%, характерных для федеральных выборов, «Единая Россия» получит около 7% голосов. Может быть, этим объясняется решение думского большинства поднять до этого уровня барьер прохождения партий в парламент?
Региональные выборы также показали растущую поддержку активной частью населения народно-патриотических сил. В сумме за КПРФ и «Родину» голосовало в 1,5 раза больше избирателей, чем за «Единую Россию», а с поправкой на фальсификацию — вдвое больше. Если к этому добавить число голосующих против всех и за другие оппозиционные партии народно-патриотической ориентации (АПР, Партия пенсионеров, Партия социальной справедливости, Социал-демократическая партия), то перевес достигает трехкратной величины.
Едва ли за оставшиеся два года до выборов партии власти удастся переломить сложившуюся тенденцию падения популярности. Уже проведенные ими социальная и политическая реформы будут иметь долгосрочные негативные для большин ства населения последствия. За исключением Москвы и нефтеносной Западной Сибири, регионы в рамках сложившейся системы налогово-бюджетных отношений не смогут профинансировать сброшенные им федеральной властью социальные обязательства. Отказ федерального центра от обеспечения социальных гарантий ветеранам труда, детям, жертвам катастроф и другим категориям нуждающихся в государственной поддержке граждан означает для большинства из них фактическую их отмену.
Социальная реформа неизбежно ведет к снижению уровня жизни во всех регионах, кроме Москвы и Тюменской области, в которых доходы бюджета на душу населения пятикратно превышают среднероссийский уровень. В остальных регионах не хватит средств для преодоления деградации социальной инфраструктуры, сохранения даже нынешнего, весьма невысокого качества медицинских и образовательных услуг. У большинства российских семей, тратящих почти все свои доходы на питание, не хватит средств для оплаты требуемых им коммунальных и медицинских услуг. В этих условиях проводимая сегодня властью коммерциализация социальной сферы неизбежно повлечет дальнейшее снижение уровня и качества жизни большинства российских семей. Это происходит на фоне быстрого роста доходов олигархов и коррумпированной бюрократии, досрочного погашения внешних долгов при отказе выполнения обязательств государства от восстановления трудовых сбережений граждан, колоссального профицита федерального бюджета.
Стагнация удручающей бедности и дальнейшее снижение уровня жизни большинства населения на фоне роста доходов властвующей олигархии и государства не может не вызывать возмущения людей, их негативного отношения к власти. К следующим думским выборам «Едроса» подойдет с рейтингом в 5—10%. Против нынешней власти — и на парламентских, и на президентских выборах — будет голосовать подавляющее большинство избирателей. Но это не означает еще автоматической победы народно-патриотических сил.
Чтобы удержаться, властвующая олигархия вновь прибегнет к обману избирателей, фальсификации выборов, при менению всего арсенала грязных избирательных технологий. Чтобы защитить голоса своих избирателей, оппозиции необходимо обеспечить хотя бы контроль над подсчетом голосов и быть готовой идти до конца в борьбе за честные выборы. Для этого надо подготовить и обеспечить условия для работы сотням тысячам наблюдателей. Хотя бы для этого нужно объединяться.
Объединение нужно и для предотвращения обмана избирателей путем клонирования президентской администрацией фальшивых популистских партий с целью отбора голосов у народно-патриотических сил и опускания представляющих их партий ниже проходного барьера. Уже сегодня идет подготовка клонов, дублирующих «Родину» и КПРФ. Но чем крупнее и влиятельнее партия, тем менее эффективна клоновая технология обмана избирателей.
Наконец, объединение необходимо для убеждения избирателей в серьезности наших намерений. Если партии, имеющие схожие программы, выдвигающие одни политические требования, голосующие в парламенте одинаково, не могут объединиться, то у избирателя закономерно возникает сомнение в их искренности в отстаивании общенародных интересов. Появляется подозрение, что корпоративные интересы таких партий и личные амбиции их руководителей значат для них больше, чем общее дело, за которое голосует избиратель. Сомнение порождает апатию и уныние — наши потенциальные избиратели отказываются голосовать.
И последнее. Отказ лидеров народно-патриотических сил от объединения вызывает вполне обоснованное подозрение их в закулисных интригах с президентской администрацией. Не секрет, что некоторые из них пытаются договориться с Кремлем о предоставлении им преимуществ в конкурентной борьбе с другими партиями народно-патриотической направленности. Это провоцирует взаимное недоверие и даже антагонизм между лидерами народно-патриотических сил, что блокирует саму возможность объединения.
Объединение народно-патриотических сил в единую политическую коалицию, которая будет действовать по совместно разработанному плану на выборах, позволит снять эти подоз
рения, убедить наших потенциальных сторонников проявить политическую активность в защите своих же интересов и, разумеется, победить на федеральных выборах.
Технология объединения
Дьявол, как известно, кроется в деталях. На словах все лидеры народно-патриотических сил высказываются за объединение. На практике, как только дело доходит до составления партийных списков, объединения не получается. Причина очень проста — корпоративные и личные интересы неизменно оказываются важнее общенародных.
Этот позорный для народно-патриотических сил факт необходимо признать, чтобы отделить зерна от плевел. Весь политический опыт последнего десятилетия свидетельствует о пагубности каких-либо политических соглашений с нынешней властью. Она противопоставила себя обществу, приобрела откровенно паразитический характер. Если мы исходим из общенародных интересов, а политика и интересы власти им противоположны, то какая может быть основа для соглашений?
Все представители власти — от президента до районных функционеров-единороссовцев — в один голос заявляют о неизменности проводимой ими политики. И у нас нет никаких оснований в этом сомневаться — власть окончательно отгородилась от общества и мнение последнего ее не интересует. Также как и политическое партнерство. Власть самодовольно занята самообогащением, она живет по понятиям, среди которых ключевую роль играют принципы личной преданности и денежной заинтересованности. У нее нет никаких мотивов о чем-либо договариваться с оппозицией — она ощущает себя всесильной и самодостаточной.
Желающие о чем-либо договариваться с президентской администрацией должны избавиться от иллюзий какого-либо партнерства. Так же как партнерство с мафией может вестись только на основе полного подчинения ее правилам и безусловного исполнения приказов вышестоящих по иерархии преступного сообщества, так и партнерство с нынешней властью любого из «независимых политиков» неизбежно предполагает отказ и от независимости, и от политики. В построенной нынешней властью политической системе остался только один политик — президент Путин. Все остальные должны либо исполнять поручения вышестоящего начальства, либо исполнять отведенные им роли в политическом театре марионеток, в котором президентская администрация ставит публичные политические спектакли.
У меня нет сомнений, что среди уважаемых лидеров народно-патриотических сил найдутся желающие подыграть власти в ее театре марионеток. До сих пор за это хорошо платили. Вероятно, заплатят и в 2008-м. Но лично меня, так же как многих тысяч активистов народно-патриотического движения, роли в политическом театре не интересуют. В жизни есть более интересные занятия, чем прислуживать в политическом балагане с целью обмана собственного народа.
Каждому из лидеров народно-патриотических сил следует определиться — либо решиться на настоящую тяжелую и опасную борьбу с изрядно криминализированной властвующей олигархией, либо согласиться на хорошо оплачиваемую роль в театре политических марионеток президентской администрации. Ни к кому претензий не будет, если это самоопределение произойдет без обмана. Ведь не в претензии же мы на Жириновского, давно и успешно шутовствующего в этом театре. Но лучше политически умереть, чем заниматься этим постыдным делом.
Итак, первое, что мы должны сделать для объединения народно-патриотических сил, — отмежеваться от марионеток, играющих роль лидеров в различных структурах народно-патриотического движения. Критерий этого отмежевания очень прост — тот, кто не бегает в президентскую администрацию за инструкциями и не выторговывает себе роль, тот остается с нами.
Как только хотя бы часть лидеров народно-патриотических сил возьмет на себя обязательство не заигрывать с властью, а бороться за нее, все остальные проблемы объединения решатся быстро и без труда. Ведь лидерство в этой борьбе — это право повести за собой в атаку и первому броситься на Вместо заключения. Объединенин или политическая смерть амбразуру, проложив дорогу товарищам. Настоящим лидерам народно-патриотического движения не придется красоваться на телеэкранах контролируемых президентской администрацией СМИ или выпивать на кремлевских приемах. Куда более вероятно оказаться в сточной канаве больного воображения профессиональных клеветников из кремлевского журналистского пула или в тюрьме по лживому обвинению. Никто не гарантирует также от отравлений, запугиваний родственников, похищений и т.п.
Борьба за победу на федеральных выборах 2007—2008 гг. не будет приятной прогулкой по кремлевским дворикам. И хотя народно-патриотические силы поддержит подавляющее большинство избирателей, их сознание необходимо уберечь от обмана, а поданные на выборах голоса суметь защитить от воровства. К этой борьбе нужно готовиться сейчас, отрабатывая совместные решения и политические действия.
Некоторое продвижение в деле объединения народнопатриотических сил уже есть. Согласованы вопросы общероссийского референдума «За достойную жизнь», которые можно считать программой-минимум, разделяемой ведущими организациями народно-патриотических сил, поддержавшими проведение референдума. Представители КПРФ и блока «Родина» вместе отстаивали право граждан на референдум по наиболее волнующим общество вопросам в ЦИКе и Верховном суде. Вместе эту инициативу следует продвигать дальше, вплоть до проведения народного референдума в противовес противозаконной позиции запуганных властью чиновников Центризбиркома. Заработало Народное правительство, которое по сути является коалиционным, состоящим из представителей различных организаций народно-патриотических сил. Решения и позиции Народного правительства по актуальным проблемам социально-экономического развития страны дают дополнительные основания для выработки общей позиции и совместных действий народно-патриотических сил.
Чтобы двигаться дальше по пути объединения здоровых народно-патриотических сил, необходимо создать Координационный совет из представителей наиболее влиятельных организаций и движений, разработать общий план действий и
принять правила формирования совместных решений. Объективный анализ показывает, что при совместных действиях КПРФ, «Родина», «Патриоты России», Партия социальной справедливости, Социал-демократическая партия, Аграрная партия России могут победить на выборах 2007—2008 гг. Может быть, не стоит разменивать эту нужную и одну на всех победу на позорные роли в шутовском театре политических марионеток?
Опубликовано в газете «Завтра» 27 июля 2005 г.
ФЕНОмЕН ГЛАЗЬЕВА
Бесспорно, феномен Глазьева существует. Ученый и политик, понимающий механизмы функционирования современной рыночной экономики, выступающий против примитивной ее либерализации, доказывающий необходимость государственной поддержки научно-технического прогресса, развития науки и образования, Глазьев последовательно выступает с критикой догм рыночного фундаментализма, пытаясь объяснить реформаторам, что если государство не регулирует рынок, то его регулируют монополии и организованная преступность. Он доказывает необходимость кардинального повышения оплаты труда и изъятия в доход государства природной ренты, объясняя экономическую целесообразность социальной справедливости в распределении национального дохода как необходимого условия механизмов социального партнерства, без которых немыслима современная экономика знаний. Глазьев ведет борьбу с невежеством правительственных министров, не боясь испортить отношения с властями предержащими.
Он родился 1 января 1961 г. в Запорожье в обычной советской семье инженеров. Отец работал мастером на «Запорожстали», мать — проектировщиком в Институте титана. Прадед жил в Екатеринославской губернии, был крепким крестьянином, обладал сильным характером. После столыпинской реформы он выделился из крестьянской общины и стал вести хозяйство самостоятельно. Другой прадед одним из первых на Украине организовал колхоз, был убит бандитами в годы гражданской войны. Бабушка, будучи пятнадцатилетней девочкой, спаслась верхом на лошади от войск НКВД, проводивших коллективизацию и насильственную депортацию зажиточных крестьян на север. Оба деда Глазьева воевали на фронте в годы Великой Отечественной войны.
Иван Задорожный, дед Глазьева по материнской линии, погиб в 1943 г. в боях за освобождение Херсонщины. Сергей Борисович Глазьев, дед Глазьева по отцовской линии, был тяжело ранен и по возвращении с фронта вернулся работать в Ярославль, где в 1935 г. родился отец Сергея Глазьева, Юрий.
После окончания школы в 1978 г. Глазьев поехал в Москву, где сумел поступить в МГУ на механико-математический факультет. Через некоторое время он всерьез увлекается экономической наукой, переходит на экономический факультет и заканчивает его с отличием в 1983 г. по специальности экономиста-кибернетика. По рекомендации ученого совета поступает в аспирантуру Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ АН СССР), наиболее известного в стране центра экономической мысли, отличавшегося независимостью, всемирным признанием и научно обоснованной позицией.
В 1986 г. двадцатипятилетний беспартийный аспирант защищает кандидатскую диссертацию. Затем побеждает на конкурсе исследовательских проектов в Академии наук СССР и получает возможность сформировать исследовательскую лабораторию по проблемам долгосрочного технико-экономического развития. В 1990 г. — в двадцать девять лет — защищает докторскую. Он еще мало кому известен, кроме коллег. Но за его плечами разработанная им теория долгосрочного технико-экономического развития, которая ориентирована на максимально полную реализацию имеющегося в России научно-производственного потенциала, создание необходимых макроэкономических условий для быстрого и устойчивого роста и повышения конкурентоспособности отечественной экономики, подъема благосостояния общества и уровня жизни людей.
Основа этой теории — закономерности последовательной смены технологических укладов, понимание которых позволило выявить долгосрочные тенденции развития мировой и структурные особенности советской экономики, оценить проблемы и определить перспективные направления социальноэкономического развития страны.
Сам Глазьев говорит об этом так: «Сама жизнь заставляет оценивать возможности долгосрочного развития, искать точки роста на перспективу. У нас осталось крайне мало времени для того, чтобы остановить разрушение России. Еще немного, и процессы деградации экономики и общества станут необратимыми».
С таким жизненным багажом Глазьев встретил август 1991 г. Союзная элита оказалась сброшенной, на политической арене оказались совсем иные фигуры. В 1991 г. он становится первым заместителем министра внешних экономических связей, а с декабря 1992 г. — министром. С помощью своих коллег-экономистов разработал программу повышения конкурентоспособности и модернизации российской экономики на современной технологической основе.
Глазьев старался не примыкать ни к одной из существующих политических группировок и видел свою задачу в обеспечении интересов государства. Пока он стоит над схваткой. Монетаристская политика Гайдара не воспринимается им, но и не касается напрямую его работы. После появления в премьерском кресле Черномырдина в печати появляется такая оценка Сергея Юрьевича: Глазьев, три года назад самый молодой доктор в отечественной экономической науке, вполне свой человек в экономической команде, является, тем не менее, последовательным сторонником активной структурной политики и еще более активного государственного регулирования экспорта и импорта, что противоречит революционным либеральным догмам. Глазьев чрезвычайно сильный экономист, и с уходом Гайдара его роль в команде возрастет.
На посту одного из руководителей внешнеэкономического ведомства Глазьеву удалось добиться введения валютного контроля, который остановил нелегальный вывоз капи-
тала. Вопреки сопротивлению сырьевых монополий, Глазьев настоял на введении экспортных пошлин на вывоз нефти, газа, металлов, химического сырья и других товаров низкой степени переработки. Это позволило вернуть значительную часть природной ренты государству и уйти от коррупционных механизмов количественного регулирования экспорта сырья. Благодаря этому федеральный бюджет до сих пор получает четверть доходов. Им был разработан и введен в то же время импортный тариф, призванный защитить внутренний рынок и сохранить возможность развития отечественного производства.
В борьбе с нелегальным вывозом капитала его министерство выступает инициатором ужесточения контроля над экспортом нефти и другого сырья, введя специальный механизм регистрации экспортеров. Глазьев, начав борьбу за государственные интересы, был уверен в поддержке общества. Но он был обречен. 20 августа 1993 г. российская делегация, куда входили представители МВЭС, МИДа, Минфина и Минэкономики РФ, возглавляемая Глазьевым, вылетела с аэродрома Чкаловский. Она должна была посетить пять африканских стран, чтобы решить важные вопросы экономического сотрудничества, в частности погашения задолженностей нашей стране. На подлете к границе командир самолета получил приказ возвращаться. Выяснилось, что делегацию вернули по подложному приказу президента, сфабрикованному одним из высших чиновников.
В письме на имя президента России Глазьев дал понять, что видит тайные пружины случившегося: «Проводимый курс на ужесточение контроля над соблюдением законодательства во внешнеэкономической деятельности начал вызывать ожесточенное сопротивление. И это сопротивление перешло в открытую травлю меня и руководства министерства как раз в тот момент, когда мы перешли к практическому внедрению автоматизированной системы контроля экспорта стратегически важных сырьевых товаров и реорганизации военно-технического сотрудничества». Президент просит Глазьева оставаться на своем посту. Но уже заканчивался август 1993-го.
До 21 сентября, когда Ельцин подписал Указ № 1400, оставалось меньше месяца.
21 сентября 1993 г. Глазьев, единственный из всего кабинета министров, не согласился с антиконституционным Указом и подал в отставку. На следующий день она была принята. Чуть позже он объяснил, что еще в марте, когда в правительстве обсуждался вопрос об отношении к возможному антиконституционному перевороту и насильственному свержению советской власти, он выступил категорически против этих планов своих радикально настроенных коллег. Глазьев не был сторонником Хасбулатова, но он прекрасно понимает, зная своих бывших коллег по правительству, что те затеяли государственный переворот не во имя реформ, а ради наживы и из страха перед ответственностью за коррупцию.
После разгрома Верховного Совета Глазьев возвращается в научный мир, где становится главным научным сотрудником ЦЭМИ. Казалось, с политикой покончено. Но когда ему предлагают участвовать в выборах в Государственную думу по списку Демократической партии России, он соглашается и вместе с Николаем Травкиным, кинорежиссером Станиславом Говорухиным, академиком Олегом Богомоловым встает в оппозицию к октябрьскому режиму. Став депутатом, Глазьев избирается председателем Комитета по экономической политике и быстро делается одной из самых заметных парламентских фигур. К осени 1994 г. в печати он называется неформальным лидером думской антиправительственной оппозиции, потенциальным теневым премьером. При обсуждении бюджета на 1994 г. Глазьев заявляет: в Думе не оказалось конструктивной оппозиции курсу правительства. Это породило странную ситуацию, когда одни делают вид, что проводят экономические реформы, а другие — что выступают против этой экономической политики.
Глазьев ставит вопрос в Думе о недоверии правительству. Для вотума недоверия не хватает 27 голосов. Черномырдин устоял, но вслед за этим Дума по инициативе Глазьева принимает резолюцию о неудовлетворительной работе кабинета. При этом, несмотря на противодействие исполнительной власти, депутат Глазьев продолжает делать все возможное для улучшения состояния российской экономики. По его инициативе разрабатываются и принимаются законы, направленные на создание необходимых правовых условий обеспечения экономического роста и эффективного регулирования экономики в интересах общественного благосостояния и развития отечественного научно-производственного потенциала.
Наиболее важными из них были законы: «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», «О некоммерческих организациях», «О внесении дополнений в Уголовный кодекс РСФСР», направленный на пресечение контрабанды и казнокрадства.
Дальнейшая карьера Глазьева развивается непросто. Конгресс русских общин, в первую тройку которого он входил, проигрывает выборы в Думу в декабре 1995 г. Информированные люди в окружении Ельцина говорят, что КРО в действительности набрал более 10%, но решено было «не пускать» патриотов в Госдуму, и в течение месяца после выборов избирательные комиссии «утрамбовывали» результаты голосования, опуская результаты КРО ниже пятипроцентного барьера.
По приглашению Александра Лебедя Глазьев становится в 1996 г. начальником Управления экономической безопасности в Совете безопасности Российской Федерации. На этом посту он разрабатывает стратегию обеспечения экономической безопасности России, а также перечень критериев национальной экономической безопасности, добивается официального утверждения этих документов в качестве государственных нормативных актов.
После отставки Лебедя и его замены Рыбкиным и Березовским Глазьев покидает Совет Безопасности и возглавляет с 1996 по 1999 г. Информационно-аналитическое управление в аппарате Совета Федерации. За год до краха финансовой системы России 17 августа 1998 г. выступает с докладом о надвигающейся финансовой катастрофе, предлагая правительству и Центробанку конкретные меры по ее предотвращению. Однако его не слышат. За полгода до дефолта он разрабатывает и инициирует проект закона «О мерах по предотвращению финансового кризиса», принятие которого позволило бы избежать банкротства государства. Законопроект был принят Государственной думой в первом чтении, но затем отложен под давлением финансовых спекулянтов и их лоббистов в правительстве, извлекавших на сооружении финансовой пирамиды ГКО огромные прибыли.
После дефолта 1998 г. Глазьев входит в рабочую группу при правительстве Примакова по подготовке проекта среднесрочной программы социально-экономического развития РФ. Ряд его предложений, касающихся денежно-кредитной, ценовой и инвестиционной политики был принят и реализован в программе антикризисных мер, которая сыграла решающую роль в посткризисном оздоровлении российской экономики.
Не прекращает С.Ю. Глазьев и исследовательской деятельности. Он автор более 200 научных работ. В 1999 г. ему присвоено ученое звание профессора. В 2000 г. Российская академия наук избрала С.Ю. Глазьева членом-корреспондентом.
За цикл исследований длинных волн в экономическом развитии награжден медалью Н.Д. Кондратьева. В 2000 г. Русский биографический институт назвал Глазьева человеком десятилетия за вклад в экономическую науку и поддержку отечественных товаропроизводителей, в 2002 г. — человеком года в номинации «наука». В 2003 г. Глазьев вновь назван «человеком года» — за вклад в разработку и популяризацию механизма налогообложения природной ренты.
В декабре 1999 г. становится депутатом Госдумы, избираясь по списку КПРФ. Инициирует внесение ряда законопроектов, направленных на обеспечение условий для экономического роста и повышения уровня жизни народа. Среди них, в частности, проекты законов «О дополнительном налоге на
недропользователей», «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»; «О внесении изменений и дополнений в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», «Об ответственности органов федеральной исполнительной власти за обеспечение конституционных прав граждан», «О социальном партнерстве государства и религиозных организаций», «О внесении изменений в закон «О связи», «О внесении изменений в закон «Об информации, информатизации и защите информации».
С 2000 по 3 апреля 2002 г. руководит в Государственной думе Комитетом по экономической политике и предпринимательству. С ноября 2002 г. и до завершения работы Госдумы III созыва работает в Комитете по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы.
В июне 2002 г. инициативная группа выдвигает Сергея Глазьева на пост губернатора Красноярского края. На выборах 8 сентября он занимает третье место, набрав 21,6% голосов. После красноярских выборов политологи и пресса снова заговорили о феномене Глазьева. Самое большое открытие губернаторских выборов в Красноярске — Сергей Глазьев. Это признали все, в том числе его главные соперники («Независимая газета», 18.09.2002).
Были высказаны и предположения, что феномен Глазьева — это реакция избирателей на засилье грязных политтехнологий («Городские новости», 10.09.2002), что у Глазьева был слабый пиар, весьма специфическая харизма ботаника, но зато сильная, доступная и популярная программа. Она в той или иной мере уже овладела массами, то есть стала, как говорили классики, материальной силой. Она, мол, очень проста: раз уж мы сырьевая страна, то сверхдоходы топливноэнергетического комплекса, образующиеся от использования недр (горная рента), должны принадлежать государству, обществу («Политком», 14.01.03).
Сам же Глазьев, комментируя результаты своего участия в красноярских выборах, замечает: «Я просто пытался объ яснить людям, что они должны голосовать за собственные интересы».
В преддверии парламентских выборов 2003 г. Сергей Глазьев выступает за объединение всех конструктивных народно-патриотических сил и движений: «У нас есть четкое понимание, что нужно делать для того, чтобы обеспечить высокие темпы экономического роста, для того, чтобы поднять доходы населения, обеспечить полномасштабное выполнение всех социальных гарантий. Но времени для этого немного. Если мы не воспользуемся шансом, который нам предоставляется сейчас, то, боюсь, через 5 лет мало что можно будет сделать. Чтобы реализовать этот шанс, нужна широкая коалиция всех конструктивных патриотических сил и движений. И тогда, я убежден, мы сможем найти весомые аргументы и объяснить людям, что они должны голосовать за свои собственные интересы».
К сожалению, настойчиво продвигавшийся Глазьевым план создания широкого народно-патриотического фронта в форме избирательного блока КПРФ—НПСР не был реализован. Руководство КПРФ в последний момент отказалось от этой идеи, решив идти на выборы своим партийным списком. Глазьеву и сторонникам объединения народно-патриотических сил пришлось срочно создавать свой избирательный блок.
В августе 2003 г. Глазьев возглавляет избирательную коалицию народно-патриотических сил, объединившую более 40 партий и движений. 14 сентября объединительная конференция трех блокообразующих партий («Партия российских регионов», «Народная воля», Социалистическая единая партия России «Духовное наследие») принимает решение о создании избирательного блока «Родина». В федеральный список коалиции наряду с Глазьевым входят Дмитрий Рогозин, Георгий Шпак, Виктор Геращенко, Валентин Варенников, Сергей Бабурин.
На выборах в Государственную думу 7 декабря 2003 г. Народно-патриотический союз «Родина», возглавляемый Глазьевым, получает более 9% голосов избирателей, а сам Глазьев одерживает уверенную победу по 113-му Подольскому одномандатному округу.
После успешного прохождения блока «Родина» в Государственную думу была образована одноименная фракция, руководителем которой был единогласно избран лидер блока С.Ю. Глазьев.
Успешное завершение думской избирательной кампании следовало закрепить формированием общественно-политических структур для объединения актива и сторонников Народно-патриотического союза (НПС) «Родина». 25 декабря 2003 г. на собрании инициативной группы под руководством А.Н. Крутова был сформирован оргкомитет по созданию общественной организации НПС «Родина», председателем которого был избран С.Ю. Глазьев. На Высшем совете блока было принято решение о целесообразности формирования объединенной политической партии на основе трех блокообразующих партий, официально сформировавших блок «Родина» (Партия российских регионов, партия «Народная воля» и Социалистическая единая партия России «Духовное наследие»). Но этим планам не суждено было сбыться.
10 декабря 2003 г. были объявлены выборы Президента Российской Федерации, назначенные Советом Федерации на 14 марта 2004 г. Высший совет блока принял решение об участии НПС «Родина» в кампании по выборам Президента Российской Федерации, но мнения о том, как участвовать, разделились. Глазьев предложил своим товарищам всерьез побороться за власть, выступив на выборах в качестве самостоятельной политической силы, отстаивающей общенародные интересы. Но большинство в один голос не удержалось от искушения подыграть президентской администрации, поучаствовав в выборах «понарошку». В качестве кандидата от блока был предложен В.В. Геращенко. При этом в установленный для выдвижения кандидатов срок (до истечения которого оставалось менее недели) блок уже не успевал провести все необходимые для этого формальные процедуры, включая проведение съездов блокообразующих партий и конференции блока. В итоге было принято компромиссное решение. Офи
циальным кандидатом от блока был определен В.В. Геращенко, а кандидатура С.Ю. Глазьева была выдвинута сторонниками НПС «Родина», которые в тот же день провели заседание инициативной группы. При этом согласно тому же решению Высшего совета С.Ю. Глазьев должен был страховать блок «Родина» на случай неутверждения В.В. Геращенко Центральной избирательной комиссией (ЦИК) в связи с невыполнением всех необходимых для этого юридических процедур. В этом случае официальным кандидатом от НПС «Родина» становился С.Ю. Глазьев. В случае регистрации В.В. Геращенко ЦИКом С.Ю. Глазьев должен был снять свою кандидатуру.
Кампания по выборам Президента России велась с широким применением сомнительных методов со стороны администрации президента, которая с самого начала поставила задачу любой ценой обеспечить победу В.В. Путина в первом туре и провела операцию по «зачистке» политического пространства от кандидатов, способных привлечь значительное число голосов избирателей. Ведущим политическим партиям было предложено воздержаться от выдвижения лидеров, что и было ими исполнено.
С.Ю. Глазьев стал единственным серьезным кандидатом, которого кремлевским политтехнологам не удалось «зачистить». Его участие в президентской кампании было воспринято как главная угроза плану триумфального переизбрания В.В. Путина на второй срок, вследствие чего была дана команда бороться с С.Ю. Глазьевым всеми доступными президентской администрации способами. Как писали СМИ, бюджет спецоперации «анти-Глазьев», на проведение которой было брошено все Управление внутренней политики администрации президента, составил более 10 млн долларов.
Журналисты «кремлевского пула» занялись сочинением клеветнических материалов, размещаемых на центральных телеканалах и в газетах с целью дискредитации С.Ю. Глазьева.
Несмотря на противодействие властей, в поддержку Глазьева было собрано 3,5 млн. подписей. В то же время В.В. Ге ращенко в регистрации было отказано в связи с нарушени ем формальных процедур по его выдвижению. Таким обра зом, в соответствии с решением Высшего совета блока С.Ю. Глазьев становился официальным кандидатом в Президенты России от НПС «Родина».
8 февраля 2004 г. ЦИК зарегистрировал С.Ю. Глазьева как кандидата в Президенты России. По итогам выборов Глазьев занял третье место с результатом 4,1%. По официальным данным, за него проголосовало более 3 млн. человек.
В период его руководства фракцией «Родина», в соответствии с договором НПС «Родина» с избирателями, были подготовлены и внесены на рассмотрение Государственной думы законопроекты о налогообложении дополнительного дохода (природной ренты) недропользователей, «Об основах ценообразования и организации контроля за ценами», «Об ответственности органов федеральной исполнительной власти за обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на достойную жизнь и свободное развитие», «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития России» и другие.
За время работы в Государственной думе IV созыва депутатами фракции «Родина» было подготовлено и внесено около двухсот законопроектов, предусмотренных программой социальной справедливости и экономического роста избирательного блока «Родина». Большая часть из них была заблокирована «единороссовским» большинством Госдумы. «Как только наши законопроекты наталкивались на интересы олигархов, коррумпированных чиновников и организованной преступности, думское большинство блокировало их принятие и даже рассмотрение парламентом, — констатирует С. Глазьев. — «Единая Россия» защищает интересы тех, кто наживается на присвоении национальных богатств, принимая законы, разрешающие фактическую приватизацию земель, лесов, водоемов, недр и даже объектов социальной сферы. Властвующая олигархия и прислуживающая ей партия власти давно потеряли не только честь и совесть, но и ум. Они не умеют ни управлять, ни созидать, ни воспитывать. Зато хорошо научились делить, во ровать и развращать. Пока мы не освободим страну от кри минальной диктатуры паразитической олигархии и коррум пированной бюрократической верхушки, нормально развиваться и достойно жить наше общество не сможет».
Вместе с тем многие идеи программы Глазьева постепенно воплощаются в жизнь. «Несмотря на противодействие партии власти, мы сделали свое дело — заставили эту власть не только вернуть сверхприбыли от экспорта нефти и газа в казну, но и использовать эти деньги на цели социально-экономического развития. Сегодня реализуются наши старые предложения о создании мощного Банка развития, развертывании целевых программ для решения ключевых задач развития страны, проведении активной промышленной политики. На эти цели в ближайшие полтора года будет выделено свыше триллиона рублей. А ведь еще пять лет назад нынешние министры категорически отрицали необходимость этих мер, начав свою деятельность с отмены Бюджета развития, свертывания целевых программ и дерегулирования экономики.
Глазьев действительно честно выполнил свой долг перед избирателями, делегировавшими его и других депутатов Народно-патриотического союза «Родина» в Государственную думу IV созыва.
В борьбе с коррумпированной и невежественной властью за приведение государственной политики в соответствие с общенародными интересами ему не удалось сохранить союз «Родина» — вожди блокообразующих партий предпочли подчиниться кремлевскому давлению. Но Глазьев добился главного — заставил власть признать правоту своей позиции. «Я очень рад, что наконец-то те цели и задачи в области социально-экономического развития страны, которые ставил блок «Родина», стали частью государственной стратегии развития страны, начиная от решения проблем модернизации жилищно-коммунального хозяйства и заканчивая задачами модернизации экономики и ее структурной перестройки на основе прорывных направлений научно-технического прогресса», — говорит Глазьев о последнем Послании президента Федеральному Собранию. Он считает свою политическую миссию ученого, за нимавшегося политикой ради ее изменения в интересах раз вития страны, выполненной.
В настоящее время С.Ю. Глазьев руководит Национальным институтом развития и Институтом новой экономики при ГУУ. Он сопредседатель Союза православных граждан.
Главной задачей своей политической деятельности Глазьев видит сплочение всех народно-патриотических сил на основе программы социальной справедливости и экономического роста, разработанной исходя из рекомендаций ведущих институтов Российской академии наук.
«Мы должны заставить власть считаться с интересами граждан, — говорит Глазьев, обосновывая необходимость совместных действий всех общественно-политических организаций, отстаивающих интересы людей. — На выборах в федеральные органы власти все партии и организации народнопатриотических сил должны выступить единым фронтом».
Святослав Рыбас
[1] Вопросы экономики. 1998. № 1—2.
[2] Государственная дума не поддержала принятие закона о ценообразовании, инициированного С.Ю. Глазьевым. Результаты голосования за принятие закона в первом чтении: за — 209 чел.; против — 86 чел.; воздержалось — 1 чел. Голосовало — 296 чел. Не голосовало — 154 чел.
Результат: не принято. — Ред.
[3] См. предыдущую статью.
[4] В итоге длительного и бурного обсуждения единороссовское большинство Государственной думы отклонило законопроект «Об ответственности органов федеральной исполнительной власти за обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на достойную жизнь и свободное развитие».
При этом за проголосовало 133 депутата, 61 против. Фракция «Единая Россия» уклонилась от участия в голосовании. — Ред.
[5] Законопроект был внесен С.Ю. Глазьевым на рассмотрение Государственной думы 4 октября 2006 г. — Ред.
[6] 20 апреля 2005 г. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК России) после бурного трехчасового обсуждения отклонила вопросы, предложенные Московской региональной подгруппой для вынесения на референдум. Это означает и отклонение инициативы рефе-